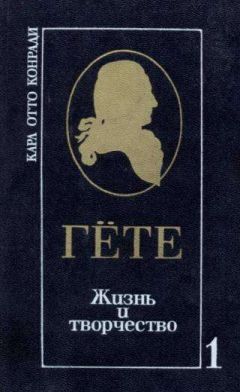Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Казалось бы, что миг высшего существования достигнут и он станет длительным счастьем. В восторженных стихах, полных сентиментальной тоски северянина, Фауст воспевает прекрасный южный ландшафт. Античность является как аркадская идиллия, воспринятая в современной перспективе. Елена также выступает как объект рефлексии и созерцания, а не как реальная фигура. А Фауст как будто бы обрел покой. Но этот покой не может быть длительным, так как античность не может существовать в современной реальности. И Фауст не может надолго сохранить (иллюзорное) сознание того, что обрел наконец совершенную красоту. Смерть Эвфориона, сына Елены и Фауста, становится знаком того, что их союз будет разрушен. Эвфорион стремился взлететь к непреложному, но разбился, продемонстрировав еще раз блеск и дерзость поэтического гения, который забывает, что жизнь — это лишь радужный отблеск и что не может существовать соединение северного со средиземноморским, античного и современного. Густую сеть ассоциаций, переплетение значений здесь можно видеть особенно отчетливо. Эвфорион мог бы воскликнуть, как мальчик-возница: «Я — творчество, я — мотовство, / Поэт, который достигает / Высот…» (2, 212), но в то же время он является воплощением идеи крушения Фауста. В этом образе прочитывается также посмертное прославление Байрона, которому посвящены и слова хора. Елена также исчезает: «На мне сбывается реченье старое, / Что счастье с красотой не уживается. / Увы, любви и жизни связь разорвана» (2, 364). Фауст разочарован, но теперь ему предстоит испробовать силу власти и активной деятельности.
Современная наука о «Фаусте» открыла новые перспективы в исследовании этого многослойного творения, допускающего к тому же большое количество разных трактовок. Мы ограничимся здесь попыткой дать приблизительное представление об этом, не имея в виду разбирать фундаментальные методологические исследования, весьма многочисленные и сложные. Тем более, конечно, мы не претендуем на то, чтобы дать им оценку. Так, например, Гейнц Шлаффер в своей работе («Фауст». Часть вторая. Штутгарт, 1981) предпринял попытку рассмотреть вторую часть «Фауста» на фоне конкретных экономических условий и уровня сознания в эпоху его завершения. В основе такой точки зрения лежит мысль, что Гёте действительно считал своей главной темой проблемы буржуазной экономики и жизненные формы эпохи. Он ведь и сам не раз говорил, что его поэтические образы рождаются в живом созерцании и сохраняют связь с миром опыта. Если исходить из того, что в 30-е годы XIX века этот опыт определялся развитием индустриализации и значение товарного обмена все больше проявлялось в общественных отношениях, то становится ясно, что воплощение всех этих тенденций в поэзии лучше всего может быть осуществлено посредством поэтического языка, который тоже ведь основан на замене. А именно на аллегории. С давних пор принципом ее создания является соотнесение элементов какого-то образного ряда с их точными соответствиями из иной чувственной сферы. Пользуясь этим критерием, можно, например, сцену маскарада, танец масок, за внешним обликом которых скрываются определенные образы, интерпретировать как рынок, институт обмена. Именно так организованы эти сцены, и сам текст подсказывает такую трактовку аллегорий. Недаром ведь мальчик-возница говорит, обращаясь к герольду: «Веря, что герольд опишет / То, что видит он и слышит. / Дай, герольд, в своем разборе / Объясненье аллегорий» (2, 211). Некоторые из аллегорий сами дают свое истолкование, как, например, оливковая ветвь: «Я по всей своей природе / Воплощенье плодородья, / Миролюбья и труда» (2, 198). Задачей интерпретации аллегорического текста является, по-видимому, расшифровка значения иносказательных образов. В поздние эпохи античности таким образом раскрывали творчество Гомера, в средние века стремились понять многозначительный смысл Библии. Подобный подход ко второй части «Фауста» не предлагает аспектов морального характера или тезисов вероучения. Здесь за театральными фигурами стоят реальные процессы и сценическая композиция отражает определенные исторические обстоятельства. Правда, в сцене «Маскарад» расшифровка образов сравнительно проста, но она значительно усложняется там, где образы трагедии становятся более конкретными благодаря точному соотнесению с мифологическими персонажами, а проблематика, наоборот, более абстрактной и многозначной. Наибольшую трудность для интерпретации во второй части «Фауста» представляет именно сочетание символики, аллегории и того, что надо понимать буквально, и часто требуется детальный анализ каждой строки, каждого оборота речи, чтобы путем такой скрупулезной работы расшифровать заключенный в них смысл.
Аллегорическая искусственность вполне соответствует характеру сцены «Маскарад». Эта сцена ведь не отражает естественной жизни, а воспроизводит художественную игру вроде римского карнавала или флорентийских празднеств. Эта задача требует специфической формы. Замаскированные фигуры оценивают свои роли как бы со стороны, для этого необходима дистанция. Вот, например, слова дровосеков: «Зато бесспорно / Без нас и дюжей / Работы черной / Замерзли б в стужу / И вы позорно» (2, 201). На маскараде особое значение имеет нарядность, при продаже товаров нечто подобное также имеет значение для успешной торговли. Здесь соотношение перевернуто: товар как будто бы не является продуктом труда садовниц, наоборот, они сами представляются атрибутом товара. Человек опредмечивается, а предмет очеловечивается. Говорящие предметы искусства действуют по тем же законам, что и садовницы. Лавровый венок служит пользе. Фантастический венок признает свою неестественность. Искусственной, неестественной ощущается также и видимость природного, которую имеют товары на рынке. Их располагают так, чтобы листва и проходы напоминали сад. Насколько заинтересованность в товарном обмене определяет характер фигур и деформирует их, становится особенно ясно на примере матери, для которой этот рынок — последняя надежда по дешевке сбыть с рук свою дочь: «Хоть сегодня не глупи / И на танцах подцепи / Мужа-ротозея» (2, 201). Нарядность и приукрашенность создают видимость, которая должна повысить обменную стоимость товаров. Их действительная ценность отступает, возникает вопрос, существует ли она еще вообще и не относится ли ко всей сцене предостережение герольда по поводу золота Плутуса-Фауста: «Вам видимость понять? / Вам все бы пальцами хватать!» (2, 217).
Так же как предметы, превращаясь в товары, теряют свои естественные свойства, так и сфера производства вообще теряет всякую наглядность. Физический труд еще ощущается у садовников и упоминается дровосеками. Абстрактным воплощением физического труда выступает слон, которого ведет Разумность, аллегория духовной деятельности. Как иерархическая пара умственный и физический труд работают рука об руку, но цели своей деятельности определяют не они, а аллегория победы: