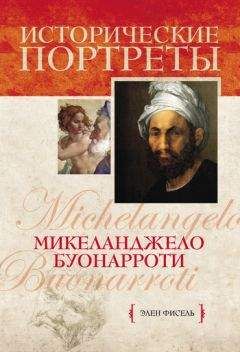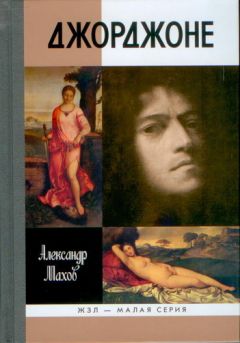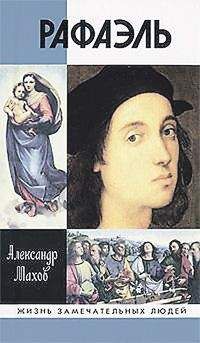А. Махов - Микеланджело
Впервые поэтическое слово Микеланджело прозвучало по-русски в переводе Ф. И. Тютчева в 1856 году после поражения России в Крымской войне, всколыхнувшего передовые слои русской интеллигенции. Поначалу великий поэт перевёл итальянские стихи на французский, а затем на русский:
Мне любо спать — отрадней камнем быть,
В сей век стыда и язвы повсеместной
Не чувствовать, не видеть — жребий лестный.
Мой сон глубок — не смей меня будить…
Позднее Тютчев подверг свой перевод значительной переделке и для придания большего драматизма звучанию стиха поменял местами первую и последнюю строки четверостишия:
Молчи, прошу — не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный…
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
В дальнейшем поэт сетовал, что время лишило его возможности вплотную заняться переводами микеланджеловской лирики. Вслед за Тютчевым перевод знаменитого четверостишия дает в 1880 году Владимир Соловьёв:
Мне сладок сон, и слаще камнем быть!
Во времена позора и паденья
Не слышать, не глядеть — одно спасенье…
Умолкни, чтоб меня не разбудить.
В 1920-е годы М. А. Кузмин, работая над переводом «Жизни Микеланджело» Р. Роллана, даёт свою версию:
Сон дорог мне, из камня быть дороже.
Пока позор и униженья длятся,
Вот счастье — не видать, не просыпаться!
Так не буди ж и голос снизь, прохожий.
В 1940-е годы М. В. Алпатов дал свой перевод знаменитого четверостишия:
Мне дорог сон, дороже камнем быть,
Когда кругом позор и униженье,
Ни чувствовать, ни видеть — наслажденье.
О, тише говори, не смей меня будить!
Несколько позже свой перевод публикует А. М. Эфрос, заканчивая стихотворение вопросом:
Мне сладко спать, а пуще — камнем быть,
Когда кругом позор и преступленье!
Не чувствовать, не видеть — облегченье.
Умолкни ж, друг, к чему меня будить?
В 1970-годы прозвучал перевод А. А. Вознесенского, в котором снова фигурирует придуманный Кузминым прохожий:
Блаженство — спать, не видеть злобу дня,
Не ведать свары вашей и постыдства,
В неведении каменном забыться…
Прохожий, тсс… не пробуждай меня!
В марте 1941 года в журнале «Искусство» появилась небольшая подборка стихов Микеланджело в переводе академика М. В. Алпатова. Он был первым, кто заговорил в наше время о непреходящем значении Микеланджело как поэта, исходя прежде всего из его изваяний и рисунков, из стремления великого мастера срывать с предметов их покровы, чтобы вскрыть их подлинную суть, и его неприязни к красочным деталям. Алпатов подчёркивает, что Микеланджело-поэт избегает описаний и риторических украшений, обнажая порывы своей страстной души. Вот почему, заключает он, «лирика Микеланджело при всей её шероховатости чарует своей пластикой, вот почему самый извилистый ход мыслей и переживаний мастера так выпукло запечатлён им в слове».103 Это был первый в наше время анализ микеланджеловской поэзии.
Позднее к Микеланджело обратился А. М. Эфрос, который, как и Алпатов, мог пользоваться только берлинским неполным изданием и перевёл добрую половину помещённых в нём стихов, справедливо отметив, что для великого мастера поэзия была «делом сердца и совести».104
Делались попытки прочитать Микеланджело как позднего «петраркиста», но они не были удачны, а сами его стихи вырывались из атмосферы гармонии звуков и образов. Как справедливо заметил священник Г. П. Чистяков в предисловии ко второму полному изданию на русском языке поэзии Микеланджело, слова типа ardentefoco, то есть «пылающий огонь», «горение», «пламя» стали ключевыми в поэзии великого творца, который сам признаёт в одном из стихотворений, сколь «мучительны о вечности мечты».105
В своё время академик Алпатов, которому автор этих строк показал свои переводы из Микеланджело, одобрил их и дал положительную рецензию для их опубликования. Из тогдашних бесед с ним на тему микеланджеловской поэзии выяснилось, что в трагические 1940-е годы особое опасение учёного вызывала публикация знаменитого четверостишия № 247. К счастью, цензура не узрела в нём аналогии с драматическими событиями в нашей стране «в годину тяжких бедствий и позора». Но осталось ощущение, что академик, как человек старой закалки, вёл тот разговор очень осторожно и с оглядкой.
Вспоминается другой курьёзный разговор с ним после пресловутой юбилейной выставки МОСХ в Манеже в марте 1962 года, наделавшей много шума. В те дни так называемой хрущёвской оттепели, которую Ахматова назвала «вегетарианской», Алпатов осторожно, но с долей горькой иронии заметил с улыбкой, какому разносу была бы подвергнута последняя незаконченная «Пьета Ронданини» Микеланджело, окажись она анонимно выставленной в Манеже. Великому итальянцу досталось бы не меньше, чем Э. Неизвестному. Вот когда многие высокопоставленные критики попали бы впросак, показав прилюдно своё полное невежество…
Нельзя не упомянуть об одном знаменательном событии тех лет, когда появление первого полного издания поэзии Микеланджело совпало с выходом в свет четырёхтомника поэзии Маяковского на итальянском языке, выпущенном коммунистическим издательством «Эдитори Риунити». Семеро смелых переводчиков во главе со знатоком русского авангарда Иньяцио Амброджо и переводчиком «Доктора Живаго» Пьетро Цветеремичем сумели добиться, чтобы «шершавый язык плаката» зазвучал на итальянском языке. Критика узрела «мистическое совпадение» в одновременном появлении в Италии двух столь разных гениальных бунтарей, рассказавших о своём времени и о себе.
Презентация итальянского Маяковского была приурочена к открытию выставки известных художников и проходила в римском Дворце экспозиций на центральной улице Национале. Среди присутствующих были видные искусствоведы, литераторы и художники. Поэты и артисты читали переводы стихов Маяковского. Помню, как после прозвучавшего стихотворения «Ведь если звёзды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?» к собравшимся обратился киноактёр Массимо Джиротти, герой многих неореалистических фильмов. В руках он держал недавно вышедшую книгу «Rime» Микеланджело.
— Послушайте, друзья, как с Маяковским перекликается наш поэт в одном из мадригалов, посвящённом «Прекрасной и жестокой донне»:
Чтоб звёзды нам сияли с высоты,
Обкрадывает ночь тайком светило.
Хоть наша жизнь уныла
И так недостаёт ей доброты,
Но блещешь только ты.
О, сколько вижу хлада
К страдающим и любящим сердцам!
К чему жестокость взгляда?
Ведь в их любви отрада,
Дарящая блеск радости очам.
Кладу к твоим стопам,
Себя же обделяя,
Всё, чем богат я сам:
Обрящем, одаряя.
Так знай, гордячка злая,
Что мы судьбой обделены не зря —
Лишь ты сияла б вечно, как заря (129).
По прошествии веков не всегда удаётся разглядеть истинное лицо гения. Уже при жизни личность творца обрастала легендами, а порой и нелепыми домыслами, порождёнными как восхищением, так и непониманием его творений, чёрной завистью, а то и просто злым умыслом. Достаточно вспомнить измышления того же Аретино. Сам Микеланджело оставил потомкам необычное своё изображение в виде лица-маски на фреске «Страшный суд», словно отражённым на подёрнутой рябью водной глади. Но подлинным автопортретом мастера мы вправе считать его поэзию. Этот поэтический портрет вылеплен из самых сокровенных дум, чувств, сомнений, желаний и чаяний. Сотворённый им образ высочайшей нравственной чистоты не может не пленять искренностью и достоверностью. Выше было сказано, что перед смертью он сжёг многие чертежи и расчёты, чтобы они не попали в неумелые руки, но стихи не тронул, оставив их потомкам, ибо они были написаны им кровью сердца, и в них он ни на йоту не поступился своими убеждениями.