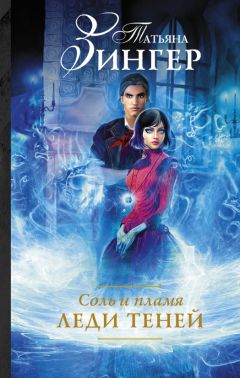Дмитрий Урнов - На благо лошадей. Очерки иппические
Произведения советских писатей «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Конармия» или «Прощай, Гульсары» и «Карюха», где действуют кони всевозможных пород, возрастов и типов, – это лошадиное кладбище. А раньше? О чем, живописуя лошадей, писал отлично вышколенный кавалерист Лермонтов? О том, как их загоняют до бесчувствия. О чем толстовский «Холстомер», а также конгениальные иллюстрации к нему Сверчкова? О том, как кончил свою жизнь на живодерне несравненный рысак. Глава о Красносельских скачках из «Анны Карениной» повествует о том, как из-за барской беспечности была погублена скаковая лошадь высокого класса. Сюжет «Изумруда» – циничная афера, жертвой которой стал резвач, выведенный из-за океана. Не забудьте и «Чубарого» Ольги Перовской – еще одна бессмысленная жертва. Краски сгущены? Конечно, сгущены – до сути, в том – сила искусства.
Правду искусства можно проверить на фактах. Если Куприн создал изумительный, до слез трогательный рассказ о ни за что ни про что загубленной лошади, то на самом деле, читая мемуары Бутовича, мы видим: мало что лошадь погубили, гибли люди, и если бы за тот же сюжет взялся Достоевский, не чуждый лошадям (недаром же сын его стал коннозаводчиком), то получилась бы трагедия с размахом на широкое социально-политическое полотно – в полном соответствии с фактами.
Достоевский не мог себе простить, как они всей семьей погубили жеребенка. О, нет, не только жалость к загубленному существу, а сознание безрассудности ради забавы предпринятой затеи не давала великому писателю покоя – не отдавал он себе отчета в том, что затевает.
А о чем сон Раскольникова? Мой отец мальчишкой оказался наяву свидетелем изуверского обращения с лошадью столь же безжалостного и бессмысленного, как и то, что во сне привиделось главному персонажу «Преступления и наказания»: «По глазам секи… по глазам… Зачем вскачь не шла!» А вот что в деревне видел отец: разъяренный мужик своей же лошаденке ножом выколол глаз, а, выколов, опомнился, и с ревом бросился клячонке на шею. Подобно герою Достоевского, которого кошмар преследовал, отец не мог виденного забыть и повторял свой рассказ снова и снова. Я говорил ему: «Перестань колебать воздух, пиши мемуары». Он: «Обязательно напишу». Не написал. Не знал, что думать: с наслаждением гонял он в ночное, он же с яростью, вбивая сельское прошлое в пыль, топтал свои порты, едва они всей семьей собрались уезжать из деревни. Так и рассказывал, дискретно: сначала одно, потом – другое, и – замолкал, без выводов.
О том же, в сущности, был и устный рассказ, слышанный мной, и тоже не раз, от наездника Татаринова. Степан Никитич Татаринов приходился племянником знаменитому Афанасию Пасечному, а Пасечной ездил на лошадях известного Шубинского, преуспевающего юриста-адвоката, мужа великой М. Н. Ермоловой. И вот Степан Никитич рассказывал: когда принадлежавший Шубинскому Патруль в руках Пасечного выиграл Всероссийское Дерби, то рысаку-победителю было преподнесено серебряное ведро, из которого дозволялось поить только его одного, зато всем гостям у Яра, для которых по случаю такого триумфа был дан ужин, предложили, насколько хватит у них желания и сил, праздновать победу всю ночь до утра. Однако сам Шубинский оказался так занят делами, что присутствовать на торжестве не мог, он лишь расплатился по счету и, подняв бокал шампанского, удалился. Как только он ушел, Судаков, владелец кухни и ресторанной залы (гардеробной владел другой человек), обратился к присутствовавшим: «Гулять можете хоть три дня, я с него за все взял». Сколько же он на самом деле «взял», если сознался в обсчете только на три дня! Но это у Степана Никитича была лишь присказка, главное же заключалось в повествовании о том, как он в свою очередь «обсчитал», не оправдал чье-то доверие, и не чье-то – обманул он святое простодушие самой Ермоловой.
Дядя верховодил на конюшне у Шубинского, а племянник, в ту пору молодой парнишка, был за кучера у супруги Шубинского, прославленной актрисы. Возил он Марию Николаевну на подмосковную дачу, во Всехсвятское, и выпало ему на себе испытать силу и магию проникнутой гуманизмом ермоловской экспрессии. Отчасти и мы имеем возможность понять его, если вслушаемся в сохранившуюся благодаря техническим чудесам звукозапись голоса трагической театральной музы. При всем несовершенстве этой записи из «Марии Стюарт», и выбор отрывка, и чувство, вложенные в произносимые слова, не могут не трогать, особенно, когда сквозь шипение и хрипы слышим глубокий женский голос, призывающий к состраданию в отношении «человека падшего». Что там человека! Ермолова сердобольна была безгранично, ей, вдохновлявшей своей игрой и своим пафосом не одно поколение, причиняло боль видеть любые муки, не только людей, но и животных. Однако возить ее тоже была сущая мука – для кучера. Тащиться до Всехсвятского приходилось с ноги на ногу, шагом, ибо гуманистка-актриса ни за что не позволяла погонять лошадь. Мало этого! «Степочка, – все тем же, проникающим до глубины души, голосом взывала она к Татаринову, – ты уж на обратном-то пути не гони лошадку, я тебе за это рублик дам. Обещай мне, Стёпочка, что пожалеешь лошадку, хорошо?». Стёпочка, понятно, обещал, клятвенно, но именно рублик – деньги по тем временам, как известно, немалые – и побуждал молодого кучера, согласно собственному татаринскому покаянному признанию, нарушив данное добросердечной хозяйке слово, гнать, что было сил во весь опор. Как только, доставив сердобольную артистку, поворачивал он к дому, так и брался за кнут.
Эх, по Тверской-Ямской…
А иногда получал он не рублик – два, даже три, а то и еще больше, все это по дороге во Всехсвятское, то есть верст за двадцать, сопровождалось призывом к состраданию, а на обратном пути соответственно ускоряло движение. «Чем больше дает, – заканчивал свой рассказ Степан Никитич, – тем пуще гонишь». Ему, само собой, не терпелось как можно скорее до конюшни добраться, лошадь как-нибудь распрячь, да оставить, чтобы на дарованные деньги по охоте, уж как положено, по-своему погулять вволю. «Так и гонишь, так и гонишь, от души», – говорил Татаринов. Как же, должно быть, он гнал, если по прошествии стольких лет чувствовал угрызения совести! Вроде моего отца, наездник повторял свой рассказ не однажды, обращая кучерскую исповедь не только ко мне, но и к самому себе. Он был вовсе не изверг, не дуролом. Подобно трагикам-гастролерам, таким, как легендарный Рыбаков, Татаринов гремел по провинции, на областном ипподроме в Раменском считался местным «Кейтоном». В этом звании его сменил Петр Саввич Гриценко, который с переходом в Москву взял Степана Никитича к себе в помощники, я же тогда приходил к Саввичу поездить, а после езды слушал покаяния старика-помощника. Повторив в очередной раз свой рассказ, Татаринов, напоминая мне моего отца, сидел молча, будто прислушивался к внутреннему голосу и спрашивал себя, что же ему теперь остается думать. Ради чего истязал лошадку-то?