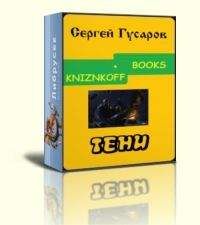Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
Неожиданно я увидел портрет Сталина кисти И. Бродского[139] (вообще-то художник специализировался на Ленине, но в середине двадцатых годов сотворил красочный облик и нового вождя, неотвратимо становящегося единственным — из живых, понятно). Эту знаменитую картину сразу же приобрела Третьяковка, о ней много писали (естественно, только хвалили) — как ее занесло из прежнего престижного обиталища хоть и в богатый, но все же провинциальный музей? Я долго всматривался в портрет. Облаченный в партийный френчик, Сталин стоял, опираясь рукой на стол, и хмуро, с недоброй настороженностью смотрел на меня — отнюдь не парадный облик вождя и маршала, созданный недавно прославленным иконописцем Налбандяном[140] и украшающий ту же Третьяковку! Я не мог оторваться от картины Бродского, я понимал значимость того, что видел: мастер не только изобразил человека, каким он был в тогдашней реальности, но и предсказал, каким он станет в будущем.
Но самых моих любимых художников, мастеров «Мира искусства» (их картины были основой сабанеевского музея), в музее нынешнем, громко названном Одесской государственной картинной галереей, я не нашел. Меня стали мучить мрачные догадки: вероятно, во время войны в здание на Сабанеевой мосту попала бомба — и шедевры русских импрессионистов погибли под развалинами.
Я обратился к смотрительнице одного из залов (в каждом ходило по одной такой надзирательнице):
— Когда-то Одесса владела лучшим в стране собранием полотен русских художников начала века. Неужели ни одной картины не удалось сохранить?
Похоже, ее разгневало это оскорбительное подозрение.
— Что вы такое выдумываете? Ни одной картины не погибло. Еще и румыны не подошли к Одессе, а у нас уже все было упаковано и готово к эвакуации.
— В том числе и мастера «Мира искусства»?
— Конечно! Разве мы оставили бы их на разграбление румынским мамалыжникам? Ни одной картины не пропало, ни одна не погибла. Я сама их паковала — несколько суток домой не уходила. Головой отвечала за сохранность каждой вещи! Я недоуменно оглядел полупустые стены.
— Тогда где же они?
Смотрительница некоторое время боролась с собой: служебное рвение требовало сохранить важный государственный секрет, южная общительность призывала поделиться мрачной тайной.
— Укрыты! — выпалила она.
— Укрыты? Где? От кого? Таиться дальше не имело смысла.
— Ну, где? Где надо, туда и поставили. Весь наш запасник завален картинами. Запрещено показывать народу идейно вредные произведения.
— Идейно вредные?.. А где ваш запасник?
— На чердаке.
— Можно мне пройти на чердак? Хоть одним глазом глянуть…
— Нельзя. Только директор музея может позволить. Но он не разрешит, он очень строгий.
— Я все-таки пройду к нему.
Я постучал в директорский кабинет, услышал громкое: «Войдите!» — и сразу узнал поднявшегося мне навстречу Брауна. Правда, теперь это был не прежний рослый юноша-весельчак, а крепкий мужик с коллекцией боевых наград на кителе. Впрочем, мне показалось, что он не изменился — только повзрослел. Вероятно, и я, уже подходивший к сорокалетию, сохранился неплохо, потому что Браун, увидев меня, сразу воскликнул:
— Тю, Сергей! Вот не ожидал!
Мы обнялись, расцеловались и стали перебрасываться обязательными вопросами: откуда, как, когда, для чего? Я узнал, что Браун благополучно прошагал всю войну (однако ранений не избежал), после демобилизации на старое хлопотное местечко в народном образовании не вернулся — друзья подыскали уголок позатишней: опекать музейные сокровища. Я поведал ему о своих трудах и днях — он посочувствовал моим бедствиям и порадовался, что они мало на мне отразились: картавлю, правда, по-прежнему, но морщин не завел, даже зубы на своих цинготных северах не потерял. Он, Браун, о себе такого сказать не может — и морщины есть, и зубы не все: окопная житуха была не слаще моей тюремно-лагерной, даже, наверное, похуже.
— Я ведь почему к тебе? — сказал я, когда мы покончили с приятельской обязаловкой. — Хочу посмотреть на художников, которых ты таишь в своем чердачном запаснике.
Он поморщился.
— Зачем? Ничего интересного — всякие импрессионисты, декаденты, упадочники…
— Многих из них я люблю с детства. Взглянуть бы на старые увлечения…
— У тебя всегда было неважно со вкусом, — назидательно установил Браун. — Помню, как тебя крыли за всякую личную отсебятину и идейные погрешности.
— Было, было… Но сейчас прошу как друга.
Браун вызвал смотрительницу и велел провести меня по запаснику.
Мы поднялись на чердак. Я восхищался и негодовал. На дощатом полу, вплотную, рамами одна к другой (как книги на полке — переплетом к переплету), стояли полотна знаменитых художников начала века. Я разворачивал и наклонял картины, чтобы лучше видеть, осторожно извлекал их из кучи… Здесь было все, чему я так радовался в юности, чуть ли не каждую неделю посещая удивительное сабанеевское собрание. Я снова увидел и величественную «Валькирию» Врубеля, и «Дон Жуана» Репина, и «Осенний пруд» Левитана, и «Небесное видение» Рериха, и его же «Кудесников», и «Болотные огни» Серова, и весь «Мир искусства» — Бенуа, Добужинского, Вакета, Лансере, Остроумова, Головина, Коровина, Борисова-Мусатова, бесценные, изящные миниатюрки Сомова. Впрочем, Сомов был не весь, многое из его одесского дореволюционного собрания было продано в первую пятилетку. И над всей этой сокровищницей нависала голая, даже дощатым потолком не прикрытая, жестяная крыша, зимой — заваленная снегом и насквозь промерзшая, в свирепые июльские солнцепеки — раскаленная до ожогов…
Впоследствии я, уже писатель, два раза был в запасниках Третьяковки, где в прежней церковке хранилось то, чему не хватило места в официальной экспозиции и что не разрешалось показывать посетителям — дабы охранить их, посетительскую, идейную незамутненность. Там все же господствовал некий порядок. Картины были размещены в специальных деревянных козлах, чтобы одна не терлась о другую, всюду висели термометры и психрометры — температура и влажность воздуха контролировались…
— Ты — преступник! — гневно бросил я Брауну, вернувшись в кабинет. — Ты сознательно губишь народное достояние!
Браун, видимо, неплохо помнил мой характер: он знал, что я непременно нападу на него, и надежно подготовился к защите. Он хладнокровно парировал:
— Не преступник, а отличник музейной деятельности! Надежный исполнитель письменных указаний нашего министра культуры Николая Александровича Михайлова. И не гублю народное достояние, а охраняю наш высокоидейный, наш глубокосознательный народ от вражеских извращений, от тлетворного дурмана поклонников буржуазного искусства для искусства, препятствующего нам в нашем героическом… На, почитай сам, если сомневаешься!