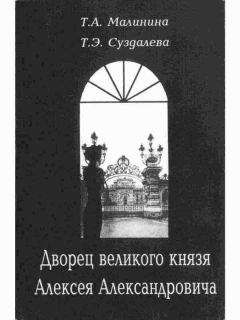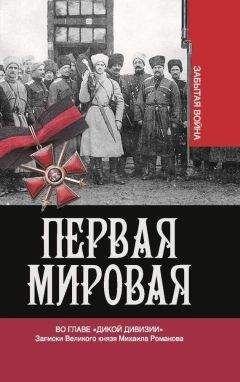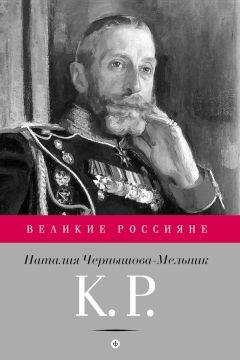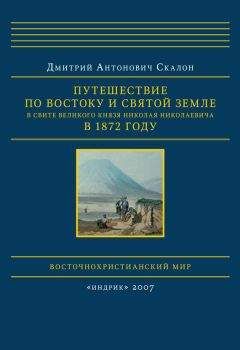Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
Между тем Мандельштам, вернувшийся из Киева, уже привык к другому отношению: «Там я впервые почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым… Тамошний мэтр, Бенедикт Лившиц, совсем завял при мне… А тут Гумилев верховодит, и не совсем, признайтесь, по праву». Так говорил он Одоевцевой. Раздраженный любовным, но несколько покровительственным отношением «старшего братца» Гумилева, уставший от его менторства, Мандельштам не спорил с ним в лицо, но исподволь переучивал по-своему Одоевцеву — и ухаживал за Арбениной. «Со времен Натальи Пушкиной женщины предпочитали гусара поэту» — эта полушутливая фраза, сказанная Мандельштамом «Олечке», была для Гумилева более чем обидна: ведь Мандельштам сравнил себя с Пушкиным, а его — с Дантесом и отказал ему в принадлежности к поэтическому цеху. Другой раз, провожая «Олечку» домой, Мандельштам стал передавать ей какие-то сплетни о гумилевском донжуанстве. «Я выговорила все это Гумилеву. Где и как не помню, но помню, как на Бассейной… Гумилев при мне выговаривал Осипу, а я стояла ни жива ни мертва и ждала потасовки…»
Видимо, именно в этот момент отношения поэтов осложнились и подошли к черте разрыва. И именно в это время под пером Мандельштама рождается несколько прославленных любовных стихотворений («За то, что я руки твои не сумел удержать…», «Я наравне с другими…») и еще одно, традиционно относимое к их числу, — «В Петербурге мы сойдемся снова…». К фразе Мандельштама, сказанной позднее жене, о том, что стихи эти «обращены скорее к мужчинам, чем к женщинам», никто всерьез не отнесся. И никто (в том числе и М. Л. Гаспаров, посвятивший этому стихотворению большую статью) не обратил должного внимания на две загадочные строчки:
Заводная кукла офицера —
Не для черных душ и низменных святош…
Эти строчки понимались по-разному. В них видели и намек на «наводнивших Петроград после Брестского мира немецких офицеров». Но все это не объясняет напора и пафоса второй строки. Лишь советская цензура 1928 года все поняла правильно и вырезала два опасных стиха, заставив поэта заменить их другими, благозвучными, благополучными, понятными.
Если этот образ — «заводная кукла офицера» — имеет отношение к Гумилеву (вспомним, сколько мемуаристов писали о его «деревянности»), то понятны и «черные души», и «низменные святоши». Это те, кто сплетничает за спиной поэта и судит его, «светская чернь» из «пушкинского» сюжета, который, парадоксально меняясь ролями, разыгрывают два акмеиста; те, кому смешно это патетическое лицедейство на краю советской ночи. Отсюда мотив театра, «шифоньерки лож», «афиши-голубки» — именно в театральном зале произошла, как мы помним, встреча Гумилева и Оленьки в январе 1920 года. Но тогда перестраивается весь семантический строй стихотворения, и оно оказывается обращенным уж точно не к юной Арбениной (которая, в сущности, была Мандельштаму не нужна — его успех в Киеве был не только литературным: там ждала его Надя Хазина, и впереди у него было семнадцать лет счастливого, хотя и странно-счастливого, брака), а скорее к другу-сопернику. Увлечение Мандельштама Ольгой Арбениной-Гильдебрандт было лишь частью той сложнейшей и многолетней эмоциональной игры, которая сопровождала его дружбу с Ахматовой и Гумилевым. В 1934 году, ненадолго, но пылко влюбившись в Марию Петровых (у которой был роман со Львом Гумилевым), Мандельштам (по свидетельству Э. Герштейн), говорил: «Ах, как это интересно. У меня было такое же с Колей». Возможно, «В Петербурге мы сойдемся снова…» — это объяснение в любви к собрату-поэту по ту сторону творческого «бунта» и мужского соперничества (и в связи с тем и другим), признание в братстве перед лицом «вчерашнего солнца», похороненного в Петербурге. Это, конечно, лишь версия. Но, на наш взгляд, имеющая право на рассмотрение.
А Гумилев? И его преследовал в эти месяцы дух Мандельштама. Одоевцева передает мистический случай: в переполненном вагоне, по дороге из Бежецка, Гумилев повторял про себя в такт колесам старые мандельштамовские стихи: «Сегодня дурной день, кузнечиков хор спит…» И вдруг кто-то из попутчиков отчетливо произнес: «Сегодня дурной день». Такие случайности не случайны…
Но уже 1 января 1921 года Мандельштам пришел к Гумилеву и сказал: «Мы оба обмануты». Для него этот обман значил, однако, несравнимо меньше, чем для Гумилева.
Еще весной 1920-го Гумилев познакомил свою подругу с Кузминым и его неразлучным спутником Юрочкой Юркуном. 48-летний (но убавлявший себе годы) Кузмин и 25-летний Юркун жили вместе уже семь лет. К Юркуну были обращены самые возвышенные образцы кузминской любовной лирики:
Вы так близки мне, так родны,
Что кажетесь уж нелюбимы,
Наверно, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.
Однако все знали, что Юркун — денди, небольшой милый прозаик (роман «Шведские перчатки», рассказы), художник-акварелист, библиофил — дарит нежность не только своему немолодому другу, но и молодым женщинам. Призрак Дантеса выступает вновь. Но в случае Юркуна и Арбениной Кузмин вел себя отнюдь не как барон Геккерн. Он уговаривал Юрочку: «Что вы делаете? Она хорошая молодая девушка… Она собирается выходить за Гумилева». Это была не столько ревность, сколько жалость к юной Олечке, «Психее».
Нина Шишкина. Фотография М. С. Наппельбаума, 1925 год
«Психея», «Коломбина», «Валькирия»… Как по-разному виделась и воспринималась мужчинами одна и та же очаровательная молодая женщина. Сколько образов и сколько масок! И какие разные стихи посвящались ей.
Моя любовь к тебе сейчас — слоненок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.
И:
Ольга, Ольга! — вопили древляне
С волосами желтыми, как мед,
Выцарапывая в раскаленной бане
Окровавленными ногтями ход.
И:
…Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.
В тебе все дразнит, все поет,
Как итальянская рулада,
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.
(В поэтическом «сухом винограде» можно узнать пайковый академический изюм, который два влюбленных сладкоежки, Гумилев и Мандельштам, просто от сердца отрывали для удовольствия красавицы.)