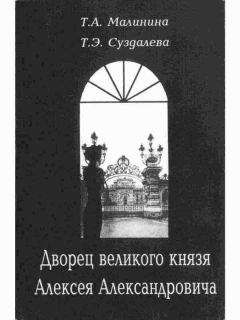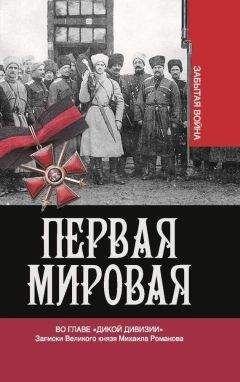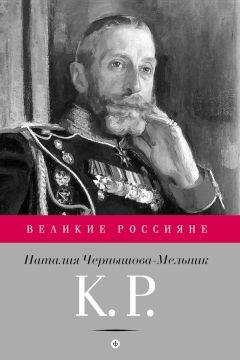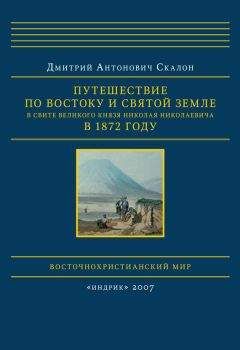Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
5
Летом 1919-го, после почти годового перерыва (раньше с ним такого не случалось!), Гумилев снова начинает писать стихи.
Начинается его «акмэ». В течение нескольких месяцев он пишет ряд стихотворений, превосходящих все созданное им прежде.
Мы не знаем, какое из них было первым. Но предположим, что это «Память», открывающая «Огненный столп», — история перевоплощений человеческой личности, преображенная поэтической фантазией автобиография, романтизированная исповедь. Гумилев прощается с собой — «колдовским ребенком», и с надменным молодым поэтом, и с «мореплавателем и стрелком». И вот:
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Образ «каменщика» уже возникал в 1913 году в «Пятистопных ямбах», но два года спустя Гумилев заменил его в окончательной редакции стихотворения иной своей ипостасью — тем, кто «променял веселую свободу на священный долгожданный бой». Но прошло еще четыре года — и образ «каменщика», строителя вернулся; только теперь он — дерзкий зодчий, соперничающий с самим Богом, архитектор рукотворного, но священного Храма. Именно таков последний выбор Гумилева, именно таков образ поэта, на котором он останавливается. Зодчий, вооруженный точным расчетом, познавший все законы своего ремесла, «угрюмый и упрямый». И этой души не изжить:
…Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
И тогда повеет ветер странный
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.
Это — то грядущее преображение мира под властью поэтов и мудрецов, которое Гумилев рассчитывал вскоре увидеть вживе и в котором мечтал сыграть важную роль. И это — конец и начало времен, предсказанные в Библии. Этим эсхатологическим напряжением полны и другие стихи той поры — «Слово», написанное в том же 1919 году, и датированное весной следующего года «Шестое чувство».
Но кто из близких Гумилеву людей способен был понять и разделить эти ощущения? Иванов, Адамович, Одоевцева? Конечно нет. Чуковский? Лозинский? Тоже нет.
Ахматова? Мандельштам? Ходасевич? Наконец, Блок? Все они в какие-то моменты жизни ощущали нечто подобное:
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.
Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.
…Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не Битва Народов. Я новое, —
От меня будет свету светло.
Но их ощущения почему-то звучали диссонансом с чаяниями Гумилева. И Ахматова услышала в его последних стихах лишь предчувствие смерти, а Ходасевич написал: «Гумилев не забывал креститься на все церкви, но никогда я не видел человека, до такой степени не понимавшего, что такое религия». Мог бы понять Гумилева Вячеслав Иванов — несмотря на все их еще не изжитые споры и расхождения. Но Вячеслав был в Москве и, похоронив ужасной зимой 1920 года Веру Шварсалон, отправился из Москвы на юг — в Баку, где на четыре года намертво ушел в профессорство, в академическую науку.
Среди шедевров 1919 года — конечно же «Душа и тело». Христианская триада тело — душа — дух у Гумилева трактуется очень нетрадиционно. Тело и душа у него — ровня, и оба несопоставимо ниже неназванного «третьего».
Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье:
А вы, вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!
Любовь (причем не только эротическая) приписывается исключительно телу. Единственный атрибут, который Гумилев оставляет душе — «холодное презрительное горе». Любопытно спроецировать первые две части этого стихотворения на отношения символизма и акмеизма. «Душа» у Гумилева — апофатическая и скорбная символистка. «Тело» воплощает акмеистическое приятие жизни — с тем тайным условием, о котором теленок-Городецкий предпочитал не знать:
Но я за все, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней.
Но для Гумилева этого было уже мало. Не «простое тело, но с горячей кровью», а тот, «кто, словно древо Издрагиль, пророс корнями семью семь вселенных» — вот отныне субъект его поэзии.
Конечно, у Гумилева 1919-го и начала 1920 года есть стихи и более «земные». Нельзя, например, предавать забвению «Персидскую миниатюру», в которой сквозь гумилевскую тонкую иронию (которой часто не замечают) проскальзывает восходящее к Анненскому, свойственное именно поэзии XX века ощущение: привычные соотношения человека и вещи, искусства как стихии и «артефакта» необратимо изменились. Гумилев прямо говорит об этой революции понятий в стихотворении, почему-то в «Огненный столп» не включенном:
Стань ныне вещью, Богом бывши,
И слово вещи возгласи,
Чтоб шар земной, тебя родивший
Вдруг дрогнул на своей оси.
К этому же времени относится и несколько переоцененный, на наш взгляд, «Лес», и «Слоненок» — чуть ли не лучший образец гумилевской любовной лирики.
С датировкой некоторых из этих стихотворений, впрочем, есть проблемы. В течение всего 1920 года печататься было негде. Все, написаное за два года, появилось в печати лишь в начале НЭПа. Гумилев многократно переделывал и переписывал стихи, составлял из них рукописные мини-сборники («Канцоны», «Персия») и, если верить мемуаристам, в конце 1920-го — начале 1921-го читал их знакомым как только что написанные.
Во всяком случае, по свидетельству Чуковского,
зимою 1921 года он каждое воскресенье заходил за мной, и мы шли через весь город на Петроградскую сторону к нашей общей знакомой Варваре Васильевне Шайкевич, большой поклоннице его поэзии. И покуда мы шли по пустынному, промозглому, окоченевшему, тихому городу, он всю дорогу читал мне стихи Иннокентия Анненского[161] и свои, новые, сочиненные только что, в последние дни…
У Варвары Васильевны он чинно садился в кресло, прямой как линейка (в креслах он никогда не разваливался), и, прихлебывая красное вино, которое каким-то чудом сохранилось у нее от старых времен, вновь прочитывал ей все свои последние стихи. Однажды мы застали у нее А. М. Горького, который незадолго до этого и познакомил нас с нею. Алексей Максимович, умевший слушать чужие стихи с необыкновенным вниманием, веско сказал Гумилеву: «Вот какой из вас вышел талантище».