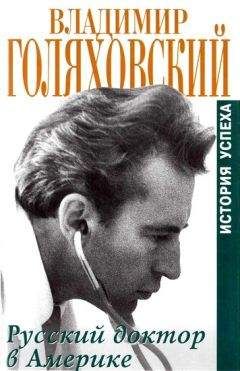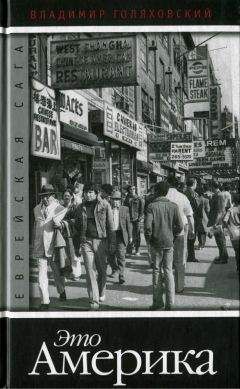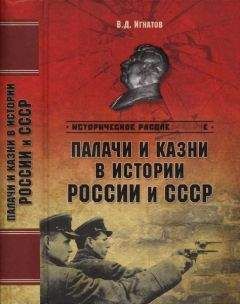Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР
— Нет, я так не считаю, — он явно страдал, разговаривая. — Но я не могу, не могу идти против других коммунистов; это было бы предательством партийного долга.
Пораженный такой «логикой», я воскликнул:
— Какого долга? Неужели ваш долг в несправедливых обвинениях меня?
Он еще больше скривился от необходимости объяснять этот свой долг:
— Михайленко и так подозревает, что я рассказал вам. Это не полагается. У меня уже был партийный выговор за потерю билета. Если меня обвинят в предательстве интересов партии, мне будет еще хуже. Поверьте, мой партийный долг заставил меня это сделать.
Предательство интересов партии? Партийный долг?.. Хоть он чувствовал свою вину передо мной, но еще больше боялся вины перед партией. За свою партийную шкуру он дрожал больше, чем за собственную совесть. Нет, было выше моих интеллигентских сил переубедить его — не читать же ему простые человеческие морали. Мы расстались холодно.
А они продолжали распускать слухи обо мне, превратив свою злобу в систематическую кампанию. За несколько месяцев они раздули все так, что нелестные для меня слухи стали циркулировать в медицинском мире. Как всякие слухи, они еще больше искажали ложь обвинений. Окутываемый паутиной лжи, я старался держаться спокойно, отбивался без коварства — «в белых перчатках». Наша борьба превратилась в испытание нервов. Приходила еще одна комиссия, опять «проверяли факты», опять не нашли ничего дискриминирующего меня. Михайленко однажды утром нервно вошел ко мне в кабинет:
— Я так больше не могу, я ночами не сплю. Еще немного, и я подам заявление об уходе.
Как ни глупа и ни смешна была его жалоба, я ответил, усмехнувшись:
— А вы прекратите писать и распускать клевету на меня, вам сразу станет спокойней.
— Не могу, моя партийная совесть мне не позволяет.
У него — партийная совесть, у Косматова — партийный долг. Удивительно и страшно было — до чего партийные извращения смогли их довести.
Я тогда, конечно, не мог предвидеть, что через пятнадцать лет Коммунистическая партия погубит Советский Союз и погубит саму себя. Но то, что партийные извращения губили людей, — это я видел ясно.
Было или не было?
У меня неожиданный гость — секретарь парткома Корниенко. Он позвонил вечером:
— Владимир Юльевич, могу я к вам заехать?
— Пожалуйста, я буду рад.
Радоваться, конечно, было нечему — его визит мог означать только еще какое-нибудь осложнение. Правда, он всегда старался показать мне, что он на моей стороне. Но по манере его поведения вполне можно было подозревать, что он сотрудник КГБ и главный шпион в институте. Возможно, потому, что я лечил многих сильных людей и генералов милиции, он думал, что за мной стоят какие-то силы, и показывал свою расположенность.
Я предложил ему что-нибудь выпить и открыл бар финского кабинета. Он воскликнул:
— Какие у вас бутылки-то все заграничные — виски, джин, французский коньяк. А наша русская водочка есть?
— Есть и русская, импортная, из зерна, — я налил рюмки. — За ваше здоровье!
— Спасибо, за ваше тоже. Хорошая водочка! — он крякнул по-матросски. — Скажите, было у вас что-нибудь с Леной?
— С какой Леной?
— Со студенткой из вашего кружка, с Леной Шалаевой.
Я чуть не подавился от удивления:
— Почему вы спрашиваете?
— Нет, вы мне сначала скажите: было или не было?
— Ничего не было.
— Странно. А она письмо написала в партком, что было.
— Врет. Что же она там написала?
— Я письма не видел и даже не знаю точно, у кого оно. Но решил вас дружески предупредить. За связь со студенткой, сами знаете, по головке не погладят. Это огласка, за это очень просто потерять и место, и даже профессорское звание. Но если не было, тогда хорошо. За ваше здоровье!
Мы еще выпили, он заторопился и ушел. Только закрылась дверь, Ирина тревожно спросила:
— Чего он приходил?
— Теперь на меня вешают связь со студенткой.
Ирина помрачнела. По счастью, я раньше рассказывал ей про домогательства Лены, с юмористической окраской. Но ни одна жена не воспримет рассказы о молодых красотках без недоверия и ревности. Уже давно она тревожилась за меня, видя, что по вечерам дома я впадаю в депрессию и пью лекарства. А тут еще такое обвинение. Я терялся в догадках:
— Откуда и почему эта нелепость возникла теперь, когда меня проверяют, не зная, к чему придраться? За этим должна скрываться явная провокация.
Удар мог быть очень чувствительным. Если женщина написала письмо, то отбиваться трудно: поди докажи — было или не было. О письме ходили слухи, но его так никто и не увидел. История была загадочная. Даже при том, что обвинение не подтвердилось, многим было приятно смаковать и передавать этот слух. И это само по себе наносило мне ущерб.
А все-таки: как и почему возникло обвинение? Я считал ниже своего достоинства пытаться разыскать и спросить саму Лену. Как ни было трудно и даже противно работать в волчьей стае врагов, я старался не показывать беспокойства и не подавать им повода для лишнего злорадства. Но мой приятель доцент Алеша Георгадзе встретил Лену в больнице № 40, где она лечилась от астмы. Он спросил:
— Что ты имеешь против Голяховскоого?
— Я ничего против него не имею.
— Почему же ходили слухи, что ты написала письмо о его связи с тобой?
И она ему рассказала примерно так: когда я отказал ей в ординатуре при моей кафедре, она плакала в ординаторской комнате при моих ассистентах, они это запомнили; потом она закончила ординатуру по терапии, была довольна и собиралась выходить замуж; неожиданно ей позвонил Михайленко и попросил разрешения заехать домой; никаких отношений с ним у нее не было, но как своего прежнего преподавателя она его приняла. Он приехал вместе с двумя другими ассистентами — Печенкиным и Валенцевым. Эти трое взрослых мужчин, все за сорок лет, стали уговаривать молодую женщину:
— Напиши на Голяховского жалобу в партийный комитет.
— Почему? У меня нет к нему никаких претензий. Я даже благодарна ему.
— А ты забыла, как плакала, когда он тебе отказал в ординатуре? Он испортил тебе карьеру. Знаешь, почему он не хотел тебя взять в клинику? Потому что вместо тебя он завел себе другую женщину и уже дал ей тему для диссертации.
Для женщины всегда обидно, если ей предпочли другую. Ничего этого не было, но они оказали на нее давление, и она стала немного поддаваться. Они настаивали:
— Твой долг остановить такого проходимца.
— Мои отношения с Голяховским — это мое личное дело, но я об этом еще подумаю.