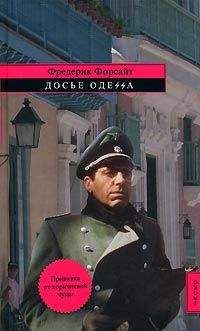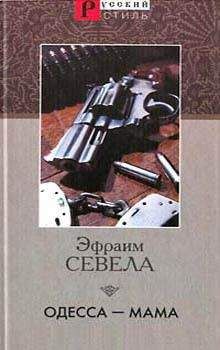Александр Сегень - Общество сознания Ч
- Да! Про зайца-то я и не рассказал, - вспомнил Василий и стал рассказывать про напавшего на него леврика. Пока дошли до храма, успел поведать эту страшную историю.
- Да, со зверем нынче что-то не то делается, - отвечал отец Василий. - Крупнеть стал зверь. Заводы в округе стоят, природа очищается. Природе - благодать, а людям - подыхать. Поневоле на село возвращаться станут. Может, в этом есть промысл Божий. Ну, Господи помилуй!
Они вошли в храм. Прасковья да Марья там подметали полы. Вскоре появился и Полупятов.
- Ну что там печка? - спросил отец Василий.
- В ажуре, - отвечал тот.
- Гляди! Чтоб мне Вася не замерз там. Он у меня и чтец, и певец. Давай, раб Божий Алексей, теперь тут печь налаживай, а то холодно что-то.
- Батя, сделаем!
Он занялся печью, а Василий и отец Василий начали совершать вечерню Великой субботы, которую вообще-то положено совершать во второй половине дня пятницы, но попускается и в первой. После «Ныне отпущаеши» под пение тропарей вынесли святую плащаницу и установили ее пред алтарем, украсили гирляндами искусственных цветов. К часу дня вечерню закончили, приложились к плащанице под пение стихиры «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного…». В храме стало теплее, печь, налаженная Полупятовым, весело горела, пощелкивая.
- Ну, Вася, исповедоваться завтра будешь?
- Завтра, батюшка. А к причастию, если допустите, то в святую ночь.
- Отец Василий, - обратился тут к священнику Полупятов. - А мне можно сейчас исповедоваться?
- Иди, исповедоваться никогда не воспрещено, - призвал его священник.
Чижов отступил подальше и издали наблюдал за исповедью «Кудеяра». Тот подошел вплотную к отцу Василию, и батюшка немного поморщился. Чижов вспомнил, что от Полупятова разило похмельным перегарчиком. Встав перед священником, крестом и Библией в немного приблатненную позу, раб Божий Алексей стал что-то говорить, прищелкивая пальцами опущенной долу правой руки. Отец Василий терпел, слушая его, потом что-то долго говорил сам. Наконец Полупятов нагнул свою могучую выю, но так, чуть-чуть только, и отец Василий с недовольным видом своей рукой пригнул эту выю побольше, накрыл епитрахилью и перекрестил голову кающегося грешника:
- И аз, недостойный иерей, отпускаю рабу Божию Алексею все прегрешения его, вольные и невольные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Целуй крест и Священное Писание.
Чижов вдохнул полной грудью, словно это ему отпустили все грехи, подошел поближе, и тут Полупятов сказал:
- Батюшка, это… бутылочку бы мне в честь праздничка, а?
- Какого праздничка? - вскинул брови священник.
- Ну как какого! Пасха же…
- Пасха? Пасха еще только послезавтра. Ступай с Богом.
- Ну так в честь исповеди, батя! Не помирать же мне до послезавтра! Будь человеком!
- Ступай, не серди меня! - приложив руку к сердцу, так и задрожал от возмущения отец Василий.
- Ну ладно! - грозно рыкнул бывший уголовник. - Эх, батя, батя! Горю ведь!
- Это хорошо, - улыбнулся священник. - Печки веселей с тобой вместе гореть будут. А горишь - это в тебя уже грядущий огнь просится. Не перегоришь тут - на том свете гореть будешь.
- Это само собой, - скрипнул зубами Полупятов и направился к дверям храма, но около самых дверей оглянулся и громко произнес: - Батя! А я главный-то грех свой утаил от тебя.
Отец Василий, мигом напрягшись, молчал.
- Сказать, какой грех?
Священник продолжал сурово молчать. Все застыли в ожидании.
- Я президента Кеннеди убил, - громко объявил озорник и с глупым хохотом удалился прочь.
- Видал такого? - прискорбно спросил Василия отец Василий.
- Вида-ал, - кивнул Чижов. - Только это на мне грех. Я ему сдуру по пути ляпнул про Кеннеди.
Этому ничего сдуру не ляпай. Ему нельзя дуру прибавлять, из него дур сам собой через край и так переплескивается. А что мне с ним делать? Не выгонишь же! Ну, милый Вася, пойдем теперь пообедаем гороховой кашкой, поспим пару часиков и опять за работу. А про зайца не думай, суеверие все это.
Глава пятая
Мухмурлук
- Шорт побьери, шорт побьери! Крог эскус тоб эшлак мардюк!
- Крог эскус мардюк тоб эшлак!
Далее следует непереводимая игра слов с использованием
местных идиоматических выражений.
В пятницу утром Борис Белокуров проснулся куда позже, чем историк Чижов, у которого он накануне побывал в гостях. Первым делом он увидел свою откинутую в сторону руку, а в руке - венгерский девятимиллиметровый парабеллум.
- Э, - сказал Белокуров весело, - да я, кажется, вчера застрелился.
Он приподнялся, огляделся по сторонам. Следов насилия в комнате не обнаружилось. Пиджак валялся на стуле, а на столе - окрошка денег. Брюки и рубашка были на нем, на Белокурове, и, стало быть, можно не одеваться.
- Хорошо, что я дома, - зевнул Борис Игоревич и направился на кухню, где в холодильнике у него было заготовлено.
Стоя на балконе с бутылкой чешского пива «Гамбринус», он хотел было обратиться с речью к «расиянам», но вдруг разом вспомнил вчерашнее: пьянство в нижнем буфете, Эллу, ее добродушного мужа, беседы у них в гостях… Батюшки! да ведь он вчера влюбился! И как это он сразу не припомнил? И ведь действительно ему вчера отчетливо мерещилось, что он испытывает начало большого и сильного чувства к этой Элладе.
- Нет уж, - вздохнул Белокуров, - несть ни Эллы, ни иудея.
К данному умозаключению не хватало только, чтобы муж Эллы был иудеем. Белокуров возвратился в свою комнату и обнаружил там собственного сына, который растерянно оглядывал его постель, а увидев отца, промолвил:
- О! Папа! Прррэт!
Неделю назад он научился говорить «р». Белокуров подошел к нему, нагнулся и поцеловал в голову, восхищаясь запахом и помышляя о том, что в рубрике «Полезные советы» надо посоветовать всем с похмелья нюхать детские головенки.
- Я у тебя тяжелый, - сказал сын. Это означало, что он хочет быть взятым на ручки. Прокофьич всегда кряхтит, поднимая его: «Ох, какой ты у меня стал тяжелый!»
Белокуров схватил Сережу, обнял и, кружась с ним по комнате, запел любимую песню собственного сочинения на мотив «Летят перелетные птицы…»:
Я с детства детей ненавижу,
Я с детства детей не люблю
И, если увижу - унижу,
Обижу и оскорблю.
В дверях выросла фигура Прокофьича.
- Сегодня вечером прошу не задерживаться, - сказал отчим Бориса Игоревича строго. - У меня сердце что-то не фурычит.
- Слуш-сь, товарищ генерал! - виновато ответил Белокуров.
- Папа, пистолет, - приказал сын, тем самым вовсе не требуя у отца его доблестный трофей. Слово «пистолет» в устах Сережи означало «писать в туалет», сокращенно.