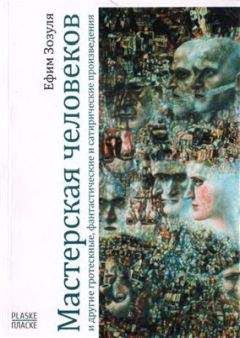Маня Норк - Анамор
— Д-дайте мне тоже речь сказать. ой, блин, забыла, как там надо. а вот: с глубоким прискорбием сообщаю о смерти моей матери Кубаревой Зинаиды. ой, блин, забыла, как там её по отчеству.
— Матвеевны, — подсказал кто-то.
— Матвеевны. ну, вот и всё, блин.
И люди тут зашептались («Господи, пьяная заявилась.»), закивали, оттеснили её:
— Может, вам лучше домой?
— Ну да, д-домой. только ты скажи, где дом-то у меня.
Дочь отошла на пару десятков шагов и вдруг сняла сапоги-чулки, швырнула их в кусты и зашагала голыми, стёртыми до крови ногами. У кладбищенских ворот она всхлипнула — коротко, словно выбулькнула сгусток крови. И ушла не оглядываясь.
Наш класс ведут к памятнику Ленину возлагать цветы — жёлтые нарциссы и красные тюльпаны. Мы в парадной форме. Старая ветеранша, очень похожая на умершую учительницу, произносит речь. Я не слушаю, а думаю: «Может, это и вправду та училка? Из могилы выкопалась, сюда пришла, а потом — обратно на кладбище и снова закопается.» Мне совсем не страшно, но тут я вспоминаю то, что недавно прочла в «Литературной газете», её мои родители выписывают. Там было написано, что в капиталистических странах детей не только бьют, а ещё и «растлевают» — в котле, что ли, варят? До косточек, до мыла?
Я не хочу умереть я не хочу никаких памятников пусть их ставят ленину и училкам пусть их ставят брежневу когда у него кончится живительный клей всем только не мне и маме.
Нам в школе всё время талдычили о Ленине, а мама рассказывала, как в её родном городе Рыбинске стреляли в памятник. Рыбинский Ленин был совершенно заурядный, с протянутой рукой. Ребята из техникума напротив по ночам навешивали на неё то связку баранок, то ещё что-нибудь съестное — рука указывала на универмаг. А потом объявился человек, вернувшийся из лагерей. Он там сидел по 58-й статье, сошёл с ума и, выйдя на волю, решил отомстить Ленину как средоточию советской власти. Добыл пистолет и пульнул в несчастную, уже поруганную длань. Мужика, естественно, повязали и отправили обратно в дурдом. Такой вот «Медный всадник» двадцатого века. Памятник заменили на другой. Теперь Ленин прятал руку в пальто, будто лелея там чекушку. В народе новый памятник назывался «Сообразим на троих».
А тартуского Ленина во время перестройки облили валерьянкой, и на него забрались коты со всего города. Пришлось вызвать пожарную команду.
Ленин умер, да пусть хоть все умрут, но мне сегодня хочется — радости. Такой, чтоб забыть о мире, в котором надо виться змейкой, биться ласточкой, бросаться лисой под поезд. просто быть — без когтей, без бросков, без извивов, пятёрок, четвёрок, троек. без речей ветеранши. Господи, как она долго, у меня аж ноги затекли. быть бы — без всего этого. Просто прижиматься носом к стеклу и пытаться разглядеть, что делает у себя дома Катька. И помахать ей, даже если она не видит. Ржать, когда Лёшка сочиняет про пьяного Деда Мороза. Пугать мамину подругу деревянной змеёй — вот так: схватишь змею за хвост, а она вихляется, и мамина подруга в сотый раз визжит, хоть знает: змея ненастоящая, вон даже цветочки на ней. а я говорю: «А вот змея — верная подруга моя!» Сочинять стишки — про змею, про что угодно, даже как в три года: «Он слонихе шлёт. ШТАНИХИ!». Придумывать с Катькой всякие смешные праздники — например, День туалетника. Ходить в гости к маминой знакомой художнице — у неё можно рисовать на стенах. Плясать под «Солей, солей», французская тётка поёт, очень зыко. Или под другое «лей» — «Леди леди леди леди леди леди Лей», это неслось из каждого окошка. Пить рижское «Детское шампанское». Лизать горчицу. На речке намазывать руки глинистой грязью и смотреть, как их стягивает.
Ларка мне шепчет: «Таньк, а вожатиха уже родила. я сама видела — с коляской ходит.» А мне хочется — просто. Без рождения и смерти, как небо, которое всегда и везде. А не так — коляска, школа, работа, памятник, кто ревёт, кто речь произносит, кто цветы кладёт, а цветы мятые. и на фиг они тебе, когда ты уже — т а м?
Цветы — это обман. Я это поняла, когда мы с мамой однажды на рынке выбирали букет для её подруги. Ты возьмёшь цветы, а они на второй день завянут, а на третий — завоняют, почти как тухлая рыба. Так зачем же их выбирать? Всё равно они обжулят. Старуха роет носом бессмертники. Бессмертники — страшные, и не цветы, может быть, но в них меньше обмана. Толстая тётенька продаёт толстый подсолнух. Подходит мальчишка, начинает его вертеть, как колесо. Тётка на него прикрикивает.
Женщина вся в красном: кримпленовый костюм, туфли на платформе, сумка, блузка, бусы. Покупает цветы — багровые тюльпаны. Даже стебли их кажутся если не красными, то уж точно розовыми. И лицо у женщины рдеет, и глазки белокроличьи, и помада шарлаховая. Расплачиваясь, женщина вынимает алый кошелёк. И я с разочарованием вижу: монетки обычные, тусклые. И всё меркнет.
Ветеранша говорит о Ленине и об американской угрозе. О китайской тоже. Я знаю: китайцы чего-то там нарушают, границу переходят. А американцы гонят гонку вооружений. Им за это Брежнев кулаком грозит: зачем, мол, мирным людям жить мешаете?
Мне-то лично американцы жить не мешают. Мне нравится у них жвачка и мультики «Майти маус», которые показывали по ТВ, когда я была совсем маленькая. Ещё у них хиппи, я уже про них знаю, и хиппи мне тоже нравятся. Мама рассказывала, что когда я была совсем маленькой, наши хиппи лежали на газоне у театра «Ванемуйне» — спали, курили, целовались. Рассматривали на свет свои феньки.
О старом хипе Аме появились легенды ещё в те времена, когда я под стол пешком ходила. В те времена он учился в Тартуском универе и уже тогда состоялся как личность мифическая и мифотворческая. Мама рассказывала, что Ам приходил на лекции босой и бородатый. И лысый — он облысел необыкновенно рано, кажется, ещё в двадцать лет. На шее у Ама висела ручка от унитаза. Брюки были расписаны масляной краской всех цветов радуги. А один амовский приятель сшил к пятидесятилетию образования СССР красные клеша невероятной ширины.
Кончилось всё тем, что Ама выгнали из университета за то, что он, находясь под кайфом, выкинул из окна общежитской учебки всю мебель, включая этажерки с собраниями сочинений классиков марксизма-ленинизма.
Ещё до моего отрочества дошла история о том, как хиппи занимались любовью прямо на проезжей части в центре города и остановили движение. Хоть на пару минут, но остановили. И я представила эту мощную картину: машины гудят, водители и менты матерятся, студенты высунулись из окон — хэппенинг происходил рядом с общагой. Старушки охают: «Ох, батюшки светы, до чего дожили» и в обморок падают. Дети хохочут и улюлюкают. А хипы на дороге распластались, голые, весёлые, трахаются вовсю, и солнышко с их кожей трахается. И небо, совсем как в плохих контркультурных фильмах, выстреливает цветами, Люси с алмазами и всё такое. лепота, в общем.