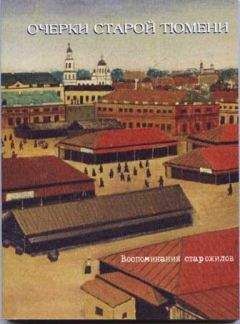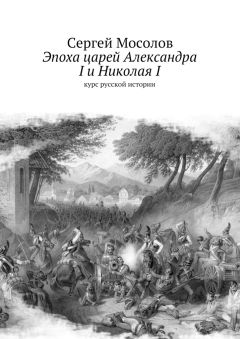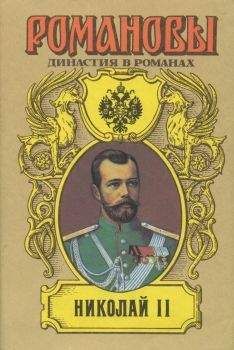Ю. Куликов - Сподвижники Чернышевского
И он действительно доложил.
Император Александр II приказал посадить депутатов под арест. Но потом отменил свое приказание, видимо поняв, что арест повлечет за собою новые петиции.
* * *Выступление литераторов возымело самое неожиданное действие. В Третьем отделении поняли, что тех бумаг, которые были отобраны у Михайлова при обыске да голословных наветов Костомарова более чем недостаточно для организации солидного политического процесса над поэтом.
Нужно было во что бы то ни стало получить от него признание. А на этом пути все средства хороши.
И все средства были брошены в бой. Всеволод Костомаров 16–17 сентября пишет некому Якову Алексеевичу Ростовцеву и датирует свое письмо 25 августа. С таким же успехом он мог писать Иванову, Петрову — письмо предназначалось для Третьего отделения.
Но трудно совместить предательство с благородством. И Костомаров выдал себя с головой. Он заботливо писал Я. Ростовцеву:
«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес ка меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих. и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П. [Плещееву], узнайте у него адрес М. и поезжайте в Петерб., скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и, во всяком случае, уничтожит все до одного экземпляры М. П. Он поймет, в чем дело…»
И это пишется для того, чтобы предупредить? Нет, подобные письма никого не могут обмануть.
* * *Хотя Михайлов и в недоумении, он не верит в прямое предательство, его беспокоит душевное состояние Костомарова.
Беспокоит его и новая, непривычная обстановка в застенке Третьего отделения. Голые стены, маленький диван, шкаф, два стула и параша.
И допросы.
С ним обращаются вежливо, иезуитски растравляют рану. Ему не говорят прямо, но с печальной миной намекают на арест или возможность ареста Шелгуновых.
В это «истязание души» поэта включается даже сиятельный граф Шувалов. Он действует напрямик, наскоком:
— Как вы ни запираетесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.
— Не знала.
— Нет, знала.
— Нет, не знала.
— Нет, знала…
И у кого крепче нервы, кто первый сдаст?
Поэт не сдался.
А в камере ночами — нескончаемая мука.
Шелгуновы, Шелгунова, Людмила!
Тревога ни на секунду не покидает его. Шувалову он говорит «нет», но ведь он-то знает, что и Людмила Петровна и Николай Васильевич самые непосредственные участники «дела». А что, если у Шувалова есть не только подозрения?
Их надо спасать!
Мысль, неосознанно сверлившая мозг еще при аресте, стала теперь девизом. Только этому он должен подчинить свои показания, решает взять всю вину на себя.
В результате 18 сентября — первое признание.
Сдержанное и не дающее следствию каких-либо серьезных улик, показание свидетельствовало только о том, что Михайлов привез из Лондона 10 экземпляров неизвестно кем написанной прокламации «К молодому поколению», показал ее одному Костомарову, а потом сжег.
Костомаров в вопросных пунктах говорил о 150 экземплярах, а во время очной ставки нагло заявил, что «Михайлов знает все», то есть он в курсе того, кто написал «Барским крестьянам», «Солдатам», «К молодому поколению».
Негодяй постепенно набивал себе цену и трудился, поелику возможно помогая Третьему отделению выбить Михайлова из состояния сосредоточенной сдержанности.
И это им наполовину удалось.
Бессонные ночи.
Красные глаза жандармов.
Пугающие намеки.
Омерзение от присутствия следователя, от встреч с Костомаровым.
Желание покончить скорее со всем этим привело к тому, что Михайлов пишет новое показание.
Он признает себя автором прокламации, но говорит, что от его первоначального текста осталось очень немного, подробно рассказывает о побудительных причинах написания воззвания, а именно о желании смягчить цензурный гнет потоком бесцензурных изданий, наконец, очень правдоподобно описывает, как он распространил свое сочинение. Он мало что прибавил и взвалил на себя главное — авторство и распространение.
Теперь его следователи и мучители могут быть довольны и оставят в покое.
Они в покое не оставили, но Михаил Илларионович стал спокойнее. Он начал замечать, что обед ему приносят из какого-то соседнего трактира и притом невкусный. Вспомнил он и о книгах, бывших у него в камере, и даже попробовал заняться переводами.
Но теперь он понял, что наговорил на себя лишнее и не миновать ему суда. А по суду сената — ссылка и, быть может, каторжные работы.
Только теперь он осознал, как иезуитски у него вырвали показания, спекулируя на его благородстве, доверчивости и страхе за друзей, за близких.
А он мог отрицать все.
И эта «история» закончилась бы непродолжительным арестом или, в худшем случае, высылкой из столицы под надзор полиции.
Хотя он еще надеялся.
Его мучители это хорошо понимали и знали об этих надеждах. Им нужны были суд и суровая расправа.
Для того чтобы у Михайлова не было путей отступления, чтобы на суде он не смог отречься от ранее данных показаний, ему предложили написать прошение о помиловании на высочайшее имя, кратко изложить в нем свою вину и уповать на монаршую волю, которая и без суда решит это дело.
Все возмутилось в нем против этого, «но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня…» — признается он впоследствии в своих «Записках».
Через несколько часов после подачи прошения Михайлову с миной сожаления сообщили, что как Третье отделение ни старалось, но «монаршья воля…». А посему он будет предан суду сената со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Глухая карета доставила его в Невскую куртину Петропавловской крепости.
* * *«Общество» волновалось. «Общество» негодовало. «Общество» спешило провозгласить Михайлова мучеником, одарить его ореолом борца за правду и… уйти в сторону, забыть.
Прокламацию прочли, сожгли и, рассуждая за сытым обедом о судьбах России, осудили.
Ее даже назвали кровожадной. Подумать только: 100 тысяч помещиков под мужицкий нож. Это уж слишком. Остальное поняли плохо, узрели компиляцию искандеровских статей и качали головами.
Люди, близко знавшие поэта, знавшие Людмилу Петровну Шелгунову, но не знавшие революционных настроений поэта, считали, что Михайлов совершил подвиг во имя любви, и сквозь строки прокламации разглядывали черты характера Шелгуновой.