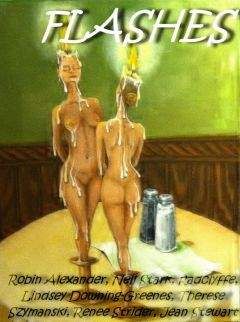Александр Ливергант - Фицджеральд
Легко сказать — выработай; Фицджеральд при всем желании не мог «выработать» то, в чем ему было отказано природой; кем-кем, а скептиком он никогда не был. Как не было скептически настроенным и его поколение. «То, что мы были циниками и скептиками, — чушь от начала до конца, — напишет Фицджеральд в очерке „Мое поколение“. — Наоборот, мы были простодушны и искренни». Скептиком не был, наоборот, всегда отличался «художественным пылом», что, по всей видимости, Перкинса и подкупило. Кончает, впрочем, Уилсон за здравие: «Но книга мне все равно понравилась. Я читал ее с большим удовлетворением и не удивлюсь, если она доставит приятные минуты и многим другим любителям литературы». «Здравие», однако, не безоговорочное. Обратите внимание на «все равно», а также на менторское «читал с большим удовлетворением»; чему-то, дескать, я, твой наставник, тебя научил, кое-что получилось — но далеко не всё.
Уилсон угадал: роман доставил приятные минуты многим любителям литературы, первый тираж был распродан в считаные недели; за восемь месяцев 1920 года разошлось 33 тысячи экземпляров. К тому времени, как книга, спустя несколько лет, вышла в Англии, в Соединенных Штатах роман выдержал 11 (!) переизданий; подобного успеха не добились ни «Великий Гэтсби», ни — тем более — «Ночь нежна» — книги значительно более зрелые. Оправданно и опасение Уилсона, что Фицджеральд может превратиться в «популярного автора романов-поделок». Действительно, Фицджеральд, о чем еще будет сказано, даже в своих лучших вещах, главным образом в малой прозе, пытается совместить редко совместимое: писать проблемные книги и при этом хорошо на них зарабатывать. Не оттого ли у писателя гораздо чаще, чем у Хемингуэя, тем более — Вулфа, Фолкнера, Дос Пассоса, встречаются приемы массовой литературы? «Читателю с улицы» они нравятся, взыскательным критикам и редакторам вроде Уилсона и Перкинса — нет, сам же автор прекрасно отдает себе отчет, чего эти приемы стоят. Показателен в этом смысле эпизод из «Праздника, который всегда с тобой», где Хемингуэй вспоминает, как Фицджеральд признавался ему, что перед отсылкой в «Сатердей ивнинг пост» «переделывал свои хорошие рассказы в ходкие журнальные рассказики»[43]. Хемингуэй, если ему верить, сказал тогда, что это называется «проституированием», на что Фицджеральд возразил, что вынужден так поступать, чтобы писать настоящие книги.
«Настоящая» ли книга «По эту сторону рая»? Разброс мнений на этот счет необычайно широк. «Котировки» Эмори Блейна колеблются от «героя нашего времени» до «уж не пародия ли он?». Приятельница Фицджеральда Дороти Паркер[44], писавшая о романе спустя лет сорок после его выхода в свет, отдает должное новаторству автора: «Сейчас понимаешь, что „По эту сторону рая“ — не бог весть что, но в 1920 году роман считался экспериментальным, а Скотт — первопроходцем». Уилсон же, и не он один, сравнивает «По эту сторону рая» со «Зловещей улицей», романом воспитания, и тоже автобиографическим, английского писателя Комптона Маккензи — и не в пользу Фицджеральда. «Твоя книга, — пишет Скотту Уилсон, — читается как пародия на „Мрачную улицу“, а в финале — как стилизация романов Уэллса» — ничего, мол, своего. Зато Гарри Хансен, литературный редактор чикагской «Дейли ньюс», расточает книге и ее автору громкие комплименты. «Господи, как же отлично пишет этот парень! — умиляется Хансен. — Возможно, это один из немногих ныне существующих настоящих американских романов».
Звучат в адрес Фицджеральда похвалы и за то, что он вывел на страницах книги новое поколение, которое «хочет жить лучше, веселее, чем их родители, более полноценной, открытой жизнью». То самое новое поколение, которое Гертруда Стайн назовет «потерянным». Бродя по ночному Принстону, Эмори Блейн размышляет: «Так вот оно, это новое поколение… поколение людей, страшащихся бедности и почитающих богатство, людей, которые удостоверились в том, что война окончилась, вера поколебалась, а Бог умер…» Высокого мнения о романе и критик левых взглядов Максуэлл Гайсмар. «„По эту сторону рая“, — пишет он в большой статье „Ф. Скотт Фицджеральд: Орест в отеле „Риц““, — азбука для мужчин его поколения… роман оставил заметный след в истории литературы… в нем есть подлинные и сокровенные наблюдения типичного молодого человека»[45]. Добавим к этому — типичного молодого человека своего поколения. И даже двух поколений — довоенного и послевоенного; этим, собственно, и объясняется успех книги: Фицджеральд — и это увидел в романе другой Максуэлл — Перкинс — описал то, что до него никто не описывал. Другой вопрос, как он это сделал. Бадд Шульберг увидел в романе правдивое описание студенческого быта: «„По эту сторону рая“ — первый, если не единственный американский роман, где студенческая жизнь лишена обычного глянца». Хвалят Фицджеральда и за то, что он очень точно передает приметы времени: моду, марки машин, обстановку, ресторанные меню, круг чтения, сленг. И хвалят, на наш взгляд, совершенно зря: эту похвалу Фицджеральд заслужил бы, пиши он исторический роман о делах давно минувших дней, а не книгу о себе и своем времени. Было бы, согласитесь, довольно странно, если бы он не знал, во что одеваются, на чем ездят, что читают, едят и как развлекаются его сверстники. Со всеми этими дифирамбами не может согласиться обозреватель лондонской «Таймс литэрари сапплемент»: «Роман довольно утомителен. Автора больше интересует литературная, а не человеческая сторона дела… целая галерея чудовищных позеров, занимающихся самокопанием… книга на редкость искусственна».
Вынуждены присоединиться к «лагерю хулителей» и мы. Сказать про первый роман Фицджеральда, что он автобиографичен — значит, ничего не сказать. В этот роман воспитания добросовестно перенесены, даром что под чужими именами, все друзья и близкие Фицджеральда, его родители, преподаватели, наставники, подруги, соученики из школы «Ньюмена» и Принстона. И в первую очередь — он сам, в результате чего мир вымысла перестает быть вымыслом, смыкается с миром реальности. Роман списан с жизни в самом буквальном смысле слова; между Эмори Блейном и Скоттом можно почти всегда поставить знак равенства, дистанция между героем и его прототипом по существу отсутствует. Герой родился в том же году, что и автор. Как и он, учится, и тоже без блеска, в Принстоне: «В Йель я бы и за миллион не поехал!» Как и он, на войну не попадает, поселяется в Нью-Йорке, работает в рекламном агентстве, прожигает жизнь, начинает писать, влюбляется. У него, как и у автора, «проникновенный взор зеленых глаз, белокурая шевелюра». У него, как и у автора, «бесхарактерный и безликий» отец. В школе и в университете у него, как и у автора, «хуже всего дело обстояло со спортом», и несмотря на это, он «захвачен мечтами о спортивных триумфах», «тренировался с яростным упорством». Его способности, как и у автора, «направлены на завоевание популярности», на «желание обогнать возможно большее число мальчиков, достичь некой туманной вершины мира». Он, точь-в-точь как Фицджеральд, искренне недоумевает, «как это люди не замечают, что он — мальчик, рожденный для славы». «Раб собственных настроений», этот романтический эгоист, «36 часов без перерыва думает о себе». Этот лишний человек, нечто среднее между Печориным и Мерсо из «Постороннего» Альбера Камю, отличается обидчивостью, позерством, ленью. Занятия, по его собственным словам, он запускает «из-за лени и переизбытка привходящих интересов» — по этой же причине, как мы знаем, запустил занятия в Принстоне и Фицджеральд. Как и автора, Блейна отличают страсть к подначкам и розыгрышам («засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта»), непомерные амбиции («я ведь тоже причастен к литературе»), любовь к Принстону: «Я полюбил его ленивую красоту, не до конца понятную значительность».