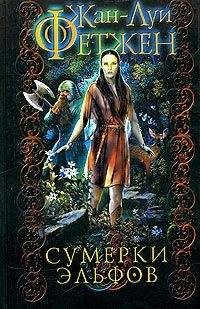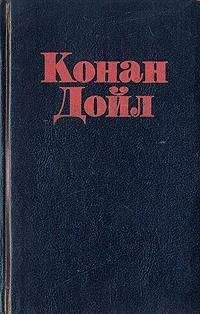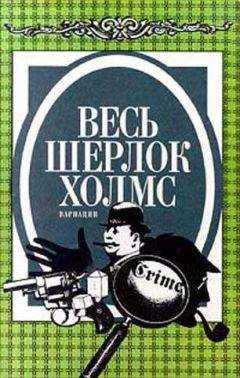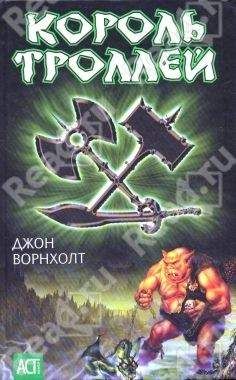Джон Карр - Артур Конан Дойл
Перед рассветом мальчик, встав с постели, добрался до умывальника, где стояли таз и кувшин. Доктор, примчавшийся на шум, застал беднягу стоящим в длинной, до пят, ночной рубашке среди битых черепков и расплесканной воды с несчастным, безумным взглядом. С трудом удалось его успокоить и уложить в постель. Конан Дойл устроился в кресле рядом с ним и так и сидел, поеживаясь от холода мартовского утра, пока наконец с наступлением дня не появилась миссис Смит с блюдом аррорута для больного.
Несколько дней спустя Джек Хокинз скончался.
Слава Богу, д-р Пайк видел несчастного накануне вечером. Было сделано все, что только можно. В противном случае злая молва камня на камне не оставила бы от растущей практики д-ра Конан Дойла. Но и теперь положение его было не слишком завидное. Конан Дойл, увидев выносимый из парадных дверей его дома черный гроб, закрыл лицо руками. Он понимал, что его первейший долг сейчас утешать мать и сестру, а вместо того — он сам нуждался в утешении.
В эти дни ему довелось наблюдать двадцатисемилетнюю Луизу, или Туи, как ее прозвали. Не будучи красавицей, она принадлежала к столь привлекавшему его типу женщин: круглое лицо, большой рот, каштановые волосы, широко расставленные голубые глаза, отливающие морской волной, которые были лучшим украшением лица. Ее доброта, безграничная жертвенность пробудили в нем покровительственные чувства. Луиза, или Туи, была, что называется, девушкой домашней: любила вышивать в кресле у камина. Он повстречал ее в скорбные дни; вскоре он был от нее без ума. В конце апреля они обручились.
Приличия не позволяли устраивать свадьбу так скоро после кончины Джека. Но он просил и умолял приблизить этот миг. Усиленно занимаясь весь май и июнь (ему нужно было написать диссертацию), он в июле получил степень доктора медицины. А 6 августа 1885 года, горячо одобряемые матушкой, Луиза Хокинз и Артур Конан Дойл поженились.
Иннеса определили в школу в Йоркшире. Мамаша Хокинз (теща), в очках с золотой оправой и замысловатом чепце со свисающими на грудь кружевными лентами, перебралась жить к новобрачным на Буш-виллас, где в уютной гостиной, обставленной мебелью с красной бархатной обивкой, стояло купленное в рассрочку пианино и Туи улыбалась мужу из-под абажура. Он был полон замыслов.
Врачебная его практика, увеличившись со 154 фунтов (в первый год) до 300, за эту сумму не переваливала. Но все же она обеспечивала их не только самым необходимым и при собственном доходе Туи в размере 100 фунтов в год позволяла некоторую роскошь. Но главное в этой новой женатой жизни — накал умственных сил, мозг, распаленный литературными замыслами. Теперь, став человеком семейным, он мог разделить — или, во всяком случае, понять — матушкин ужас перед пылью на полке или неприбранной комнатой.
Молодожены завели огромный кожаный альбом, на котором значилось: «Л. и А. Конан Дойл, августа 6-го, 1885» — для вырезок и заметок в многообещающем будущем. Сегодня, полистав страницы этого потертого тома, можно ощутить реалии и даже уловить чувства, наполнявшие их жизнь во времена хоть суровые, но и наиболее счастливые. Можно посмотреть его записные книжки, черновые тетрадки, переплетенные в толстые тома, в которых из года в год вел он записи своим мелким, четким почерком. По этим записям легко проследить круг его чтения — не только книги по тому или иному периоду истории, которые он поглощал с атласом и карандашом в руках, но и научные труды, и беллетристика. Цитаты и меткие выражения мешались с его собственными замыслами и идеями.
Время от времени встречаются записи на тему, не перестававшую его волновать: «Религии, чтобы быть истинной, должно вмещать в себя все — от амебы до Млечного Пути». Или афоризм в духе Мередита: «Сильный ум столь же неуместен в семейном кругу, как мощный голос в маленькой комнате». Или где-то вычитанный понравившийся ему анекдот: «Умирающий Талейран жалуется, что страдает, словно грешник в аду. Луи Филипп у его одра учтиво поинтересовался: „Уже?“».
До и после свадьбы он создал несколько удачных вещей: трагикомедию «Жена психолога», «Капитана „Полярной звезды“», с ужасами ледяных пустынь, «Необычайный эксперимент в Кайнплатце», с персонажами-перевертышами, где герр Баумгартен из Стонихерста превратился в профессора фон Баумгартена из Кайнплатца. В конце ноября он мог собрать 18 рассказов, которые надеялся опубликовать в одном сборнике под названием «Свет и тень». Но за что ему следовало взяться непременно — если только он вообще помышлял добиться чего-нибудь в литературе, — так это за роман. Роман, конечно же, роман!
«Гердлстон» затянулся тяжело и надолго. Начатый зимой 1884 года, он лишь в конце января 1886-го был закончен и переписан набело. Конан Дойл не слишком верил в него. Если ему суждено воплотить роящиеся в его голове фантазии, то в чем-то более остром, потрясающем и новом.
«Я читал „Детектива Лекока“ Габорио, — писал он (впервые упоминая Габорио в своих бумагах), — „Золотую шайку“ и рассказ об убийстве старой женщины, название которого я забыл. Все замечательно. Уилки Коллинз, но лучше».
А с внутренней стороны обложки записной книжки:
«Обшлаг рукава, колени, мозоли большого и указательного пальцев, башмаки — любое из перечисленного может подсказать нам что-то, но что все вместе они не прояснят картину опытному наблюдателю — невероятно».
А почему бы, собственно, не попробовать себя в детективном рассказе?
Из верхних комнат доносятся звуки пианино: играет Туи; музыкальные часы отбивают кусочек ирландской жиги. А он сидит в своем врачебном кабинете и в задумчивости курит, стена за его спиной увешана акварелями отца: «Спасительный крест», «Призрачный берег», «Дом с привидениями», с которых глядят мертвенно-бледные, наводящие ужас лица. Чарльз Дойл с окончательно подорванным здоровьем уже давно жил в доме для престарелых. Но не это занимало сейчас мысли Артура. Да и матушка, живущая в Йоркшире и по сей день пренебрегающая очками, даже правя небольшой двуколкой, — не слишком его заботила.
За моделью для своего сыщика не нужно было ходить слишком далеко: стоило вспомнить Эдинбург и тощую фигуру с длинными, ловкими, очень чистыми руками и насмешливым взглядом, фигуру человека, чья проницательность должна была так же поразить читателей, как в свое время она изумляла его пациентов. Да, но и сам Джо Белл подчас заблуждался, а сможет ли он, его ученик, так настроить свой мозг, чтобы воспроизвести ход его мыслей?
Но это еще не все. Что толку в том, чтобы объявить кого-либо сапожником или пробочником, страдающим астмой, если это не есть результат сыскного дела? Его сыщик должен быть человеком, превратившим розыск преступника в точную науку.