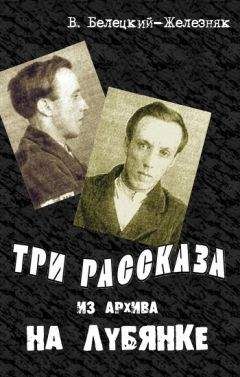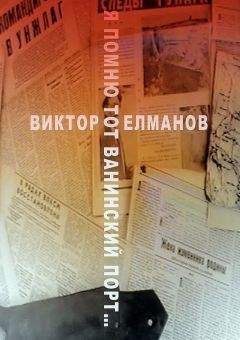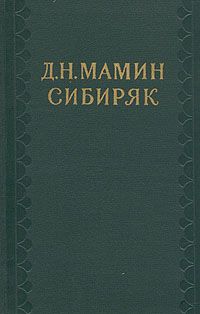Борис Соколов - Гоголь
6/18 августа 1842 г. Гоголь из Гастейна ответил на письмо А.: «Все ваши известия, всё, что ни заключалось в письме вашем, всё до последнего слова и строчки, было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о „Мертвых душах“. Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заранее. Неопределенные толки; поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья; досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком. Всё это я знал заранее. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Всё это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне всё это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти всё, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знаю, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что по мнению его, касается слишком тонких, чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но всё же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно всё говорить и больше всего то, что более всего трогает чувствительные струны, — так же, как я знаю и то, что придет наконец такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок, и может сказать всегда частную, по-видимому маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех — в этом была бы беда. Толков бы не было: всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, по-видимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного, недвижного определения — теперь нужно ловить толки и замечания: после их не будет. Я знаю, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: „Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению“, делает хорошо: так предписывает правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем вверяет, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее; но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет. Я был уверен, что Константин Сергеевич глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я знаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять „Мертвых душ“ с первого раза? — оскорбит многих. Мой совет напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: Я первый понял. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Константин Сергеевич прислал эту критику мне в Рим… Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза „Мертвые души“, совершенно справедливо и должно распространяться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда; потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава Богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя натурально нужно, чтобы она никак не знала этого. Всё то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как и всё то, что идет от рассудка. Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие. Вы говорите, что не можете понять ему причины, вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и всё останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием, но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ и ничем другим не может выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? разве произнес бы слова только: Так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою душит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся, увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познанием людей и света, если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие, то, верно, она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно уже слишком благодетельна она, верно, далеко оглянута она, верно, и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа, то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже Сам Христос? Разве всё, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление к Христу? „Где вас двое, там есть Церковь Моя“. Или никто не слышит сих торжественных слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его Небесные Силы от сей ложной, превратной любви (эта любовь Гоголя, как кажется, миновала. — Б. С.)! Но любовь душ это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; всё, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви, и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство. Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы Того, Кто первый сказал слово любви сей человекам, откуда истекла она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только Тому, Кто рай блаженства низвел на землю, Кто виной всех высоких достижений, Тому только считается как-то странным поклониться в самом месте Его земного странствия. По крайней мере, если кто из среды предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей, и жизни, одним словом, всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном „Мертвым душам“, лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, неожиданно налетевшим с небес откровением, чтобы оно не было вложено всемогущей волею Бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговение же к Промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается всё, и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться диво, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная нарастает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей».