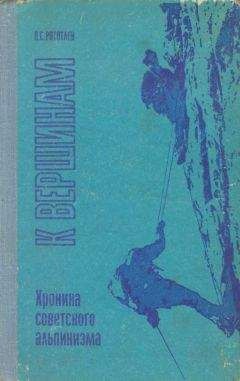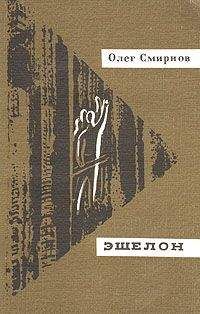Олег Смирнов - Эшелон (Дилогия - 1)
Щадить изменников, убивавших из немецкого оружия наших людей? Нет уж, увольте от подобных слюней. Война приучила к жестокости, к беспощадности. Отвыкать от них будет не просто.
Да и не во всем нужно отвыкать, видимо.
Немцы дрались за свою землю, власовцы - за свои продажные шкуры. Враг есть враг, но предатель хуже врага. Для меня власовцы были хуже гитлеровцев. Помнится, захватили за Олендорфом власовца - детина лет тридцати, звероватый, обросший рыжей щетиной, нарукавную нашивку "РОА" успел сорвать.
Спрашивают его: "Русский?" Молчок, затравленно, по-волчьи, озирается. Взятый в плен вместе с ним немец-фельдфебель говорит: "Русский. Власовский солдат". И мой солдат-автоматчик, который гменил власовца, сгоряча отвел его за сарай и расстрелял.
Я узнал об этом позже, когда автоматчика начали тягать к военному следователю. Налицо был самосуд, и мне стоило порядочных хлопот отстоять солдата от трибунала, благо война заканчивалась.
Понятно, лучше бы предателя расстрелять по приговору трибунала, но коль так обернулось, что же, затаскать нашего солдата по штрафным ротам? За кого? А боец, между прочим, прошел от Волги до Шешупы, трижды ранен, и каратели-полицаи сожгли всю его семью под Витебском.
У нас в армии Власова ненавидели люто. Особисты все выискивали, нет ли сочувствующих ему. Комроты-шесть Власова, однофамильца, вызывали в Смерш: не родственник ли генералупредателю? Бред! О каком сочувствии можно было говорить?
Хотя бдительность нужна, признаю.
Я не хотел думать о Германии, о немцах, о власовцах - и думал.
Про Власова мне вот что рассказали. Был в моем взводе пулеметчик, смелый, разотчаянный хлопец, меткий стрелок и любитель поговорить. В сорок втором он находился на Волховском фронте, выходил из окружения и вышел вместе с немногими. Онто и рассказывал: когда немцы окружили Вторую Ударную армию, расчленили ее и начали по частям уничтожать на болотах, Власов находился в лесной избушке. Гитлеровцы окружили ее.
Власов вышел и сказал, кто он, и добавил, что сдается в плен.
И еще добавил: чтоб не было свидетелей этого, прошу расстрелять мое окружение. И немцы расстреляли автоматчиков из личной охраны Власова и медсестру, его любовницу. Таков этот человек, если его можно назвать человеком. Интересно, где он? В Берлине? Пойман ли? Если да, то петли ему не миновать. А меткий пулеметчик, бесстрашный говорун, погиб при форсировании Шешупы, пуля угодила в переносье, малость не дотянул до победы.
Во власовцы подавались уголовники, бывшее кулачье, дезертиры, военнопленные из лагерей, всякие обиженные на советскую власть. Публика пестрая, у которой общим было - безвыходность положения после того, как надели немецкий френч. Я видал на фронте немцев, одетых в нашу воинскую робу, без знаков различия: агитаторы на радиомашине, были и переводчики. Антифашисты. Но мало таких. Почти весь народ был околпачен Гптлером.
Трушин утверждает, что я загибаю. Черта лысого - загибаю.
Впрочем, вероятно, и загибаю. Сам же говорил: не может быть, чтоб весь народ был плохой.
Что будет с Германией? Пусть об этом голова у самих немцев болит. Мне ее ни капли не жаль, скорее наоборот. Что заслужила, то и получит. Жаль таких безвинных, как Эрна. И вообще, конечно, женщины и дети не должны страдать. Да что там! Батальонные повара раздавали суп немецким обывателям, военные коменданты обеспечивали их хлебом, топливом, медикаментами. Русская сердобольность? Или слюнтяйство? Но я же говорю: женщины и дети ни при чем.
Надо было бы думать о другом. О чем? Не знаю. Но - о другом.
Эшелон замедлил ход, остановился в поле. Солдаты собрались было спрыгивать на землю, но он опять отронулся, пошел, набирая скорость. Я продолжал стоять, опершись на кругляк, и глядел на прусский пейзаж. Близкий план мелькал, дальний медленно разворачивался. Мысли исчезли, голова словно пустая. Так и нужно - ни о чем не думать. Башка отдохнет.
Окликнул старшина Колбаковский:
- Товарищ лейтенант, хватит стоять, в ногах правды нету.
Давайте к нам на нары!
Гулко отозвался колесам небольшой железный мост над речкой - молодцы ремонтники, восстановили. Речка была зеленая, в камышах и текла к лесу, над которым вставала радуга. Паровозный дым разрывался, лохматился, стлался вдоль эшелона, завоняло гарью. Я прикрыл дверь, оставив щель, и подошел к нарам.
Они были двухъярусные, справа и слева, посреди теплушки - топорной работы стол, противоположная дверь наглухо закрыта - там устроена пирамида для оружия. Вагон старый, зашарпанный, пол выщерблен, нары пообтертые, стояки лоснятся - теплушка послужила на своем веку, сколько перевезено нашего брата?
Нары укрыты плащ-палатками и трофейными одеялами, под ними разбросанное сено. Старшина Колбаковский организовал, то есть спер, тюк прессованного сена в хозвзводе. Ловкач. Я пощупал и обнаружил: там, где мне обитать, на втором этаже, возле окошка, сена сверхизобильно, в других местах скудно. Я раскидал сено, восстановил справедливость. Колбаковский с досадой ска-, зал:
- Товарищ лейтенант, вы же командир роты, и вам положено...
- Ничего, старшина, - сказал я, - ничего. Так будет правильней.
Колбаковский крякнул, отвернулся. Дуешься? Подуйся. Ловчи, да знай меру.
Я снял сапоги и залез на свое место, лег, закинув руки под голову. Справа вагонная стенка с оконцем, свет падал наискось, в нем толклись пылинки. Слева резиденция старшины, еще левее лежит сержант Симоненко, парторг. Начальственный закуток. Да, а все-таки восстановление попранной справедливости было демонстративным, мелким и отчасти неумным. Как-то надо было иначе проделать мне это, с сеном.
А пахло оно, сенцо, тонко и грустно, как скирда на лугу. Мне виделась эта скирда, за ней кобылица с жеребенком, оба тонконогие, в чулках, на лбу звездочка. Не представляю, видел ли когда-нибудь в прошлом скирду, кобылицу и жеребенка или вообразил их сейчас, но они были как взаправдашние. Дать бы им сенца, на котором валяюсь.
Старшина выразительно покашливал, отвернувшись. Сержант Симоненко почивал, подтянув колени к подбородку. Командиры отделений резались в подкидного дурака. На нижних нарах высвистывали: "По кирпичикам и по камушкам растащили мы этот завод", ссорились вполголоса и пробовали лады аккордеона; немецкий аккордеон - собственность старшины Колбаковского, поскольку же он играть не умеет, то музыкальным инструментом временно пользуется ефрейтор Свиридов; старшина строжайше предупреждал: "Осторожней, не сломай!" - Свиридов небрежно ответствовал: "Что я, первый год замужем? Этих аккордеонов перебывало в моих руках несчетное количество!" Но судя по тому, как неуверенно и неумело обращается ефрейтор с инкрустированным сокровищем, как фальшивит, напрашивается вывод: вряд ли вообще бывал замужем. Репертуар у Свиридова своеобразный: