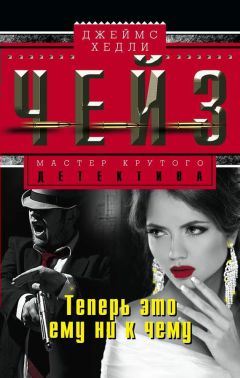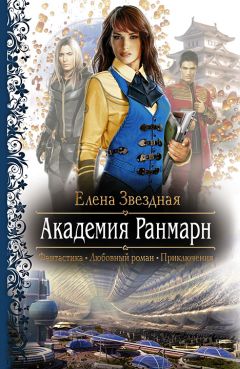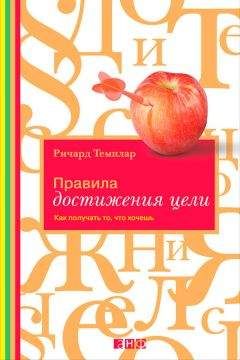Борис Кремнев - Шуберт
Класс постоянно гудел, точно по нему носилась стая черных, с синеватым отливом, больших и жирных шпанских мух. Неумолчное гуденье прекращалось лишь тогда, когда он появлялся в дверях. Чтобы тут же смениться грохотом отодвигаемых столов и скамеек.
Вся эта шумная ватага дружно вскакивала с мест не потому, что горела желанием приветствовать учителя. Просто в общей сумятице легче отвесить соседу оплеуху, дать пинка в бок или лягнуть по ноге, а это куда как приятно, особенно если впереди нудные часы сидения за книжкой. И только после того, как учитель, грозно сверкнув очками и беспомощно, словно птица подбитыми крыльями, помахивая руками, подавал знак садиться, ученики нехотя и вразнобой опускались на свои скамейки.
И класс снова начинал гудеть, то тише, то громче, но все так же неумолчно.
Меж ним и учениками установились отношения людей, друг другу сторонних, на время сведенных случаем. В этих отношениях не было места чувствам. Учитель был равнодушен к ученикам, ученики – к учителю. Он не любил их, но не настолько, чтобы возненавидеть. Они не уважали его, но не настолько, чтобы совсем не бояться. Тем более что на высоком столике, напоминавшем не то конторку, не то кафедру, подле классного журнала лежала розга.
Кое-как вдолбив своим подопечным начатки грамоты и счета, Шуберт в дальнейшем не очень утруждал себя. Обычно он давал ученикам задание, а сам, прохаживаясь между рядами или стоя за кафедрой, погружался в свои мысли. Постепенно он настолько привык к гомону, что совершенно свыкся с ним. А в те редкие минуты, когда поглощенные решением трудной задали ребята смолкали, он вздрагивал, близоруко щурился поверх очков и беспокойно тянулся к розге. Что случилось? Почему вдруг наступила тишина, пугающая и непривычная?
Шум помогал ему. Из монотонного гула многих приглушенных голосов он каким-то непостижимым даже ему самому способом вылавливал отдельные звуки. Они складывались в ритмическую фигуру, в мелодию. И вот уж напев, ясный и чистый, стремительной змейкой проносился в мозгу, и он, лихорадочно поспешая, наносил его на бумагу. А гуденье все продолжалось. И на этом одноцветном фоне только что слетевшая на бумагу мелодия внезапно вскипала новыми красками, обрастала созвучиями. Рождался аккомпанемент. Не примитивный звуковой фон, а второй план, помогающий лучше познать план первый. Единая жизнь, пронизывающая все произведение в целом.
Так рождались песни. На глазах у целого класса. Он сочинял упоенно и самозабвенно, забывая обо всем и не думая ни о чем. Его толстые губы то расплывались в радостной ухмылке, то искривлялись гримасой страдания. Его круглое лицо то светилось счастьем, то искажалось болью. Он склонял голову к столу, и курчавая шевелюра его мелко-мелко тряслась над листом бумаги, как бы сопровождая стремительный бег восьмушек и шестнадцатых.
А то вдруг он распрямлялся, высоко вскидывал подбородок и, заложив руки за спину, принимался расхаживать от окна к двери и обратно. Быстро, небольшими и частыми шажками, катясь, словно шарик, на своих коротких и толстых ногах.
И ребятишки, большую часть жизни проводящие на улицах венского предместья, среди ссор, перебранок и потасовок, склонные к насмешкам и злому озорству, как правило, не трогали его.
Учителя и учеников как бы связал неписаный договор: каждый существовал сам по себе, не затрагивая и не стесняя другого.
Правда, иногда негласное соглашение нарушалось. Обеими сторонами. Когда в классе становилось чересчур шумно и где-то сзади вспыхивала яростная драка, он, недовольно сморщившись, спешил к драчунам и, деловито оттаскав их за вихры, восстанавливал порядок. После чего пугливо оглядывался на дверь: не учуял ли, упаси боже, беспорядка отец?
А незадолго до экзаменов он отрывал своих учеников от их привычных и любимых занятий и принимался вколачивать в них науки. Другая сторона относилась к нарушению конвенции с философским спокойствием. Раз ходишь в школу, надо кое-чему и учиться. Тем более что особых поводов к огорчениям не было: каждый знал, что рвения учителя хватит ненадолго. Пройдут экзамены, все образуется и пойдет по-старому, обычным чередом.
Но случалось и так, что какой-либо распоясавшийся сорванец дикой выходкой отрывал его от сочинения музыки. Тут уж добродушный Шуберт, отшвырнув нотную бумагу, хватался за розгу, и она гуляла по чреслам негодника до тех пор, пока гнев учителя не остывал, а приятели наказуемого не притихали, испуганно и смиренно.
Раздражала его вся эта необузданная свора или, как он сам их называл в сердцах, «эта банда малышей»?
Разумеется. Ведь при всем том, что неписаный договор существовал, существовало и творчество. И оно развивалось не благодаря тому, что было вокруг, а вопреки ему. В Шуберте с невиданной силой звучали песни. А пробиваться они должны были сквозь толщу и твердь крика, гама и шума, сквозь косноязычные объяснения того, сколько ящиков чая осталось у оптового торговца К. после того, как розничный торговец Л. приобретет половину его запаса, сквозь дурацкие вопросы: почему из дырявого бочонка вода вытекает, а в дырявый башмак втекает?
Школа пожирала лучшие часы жизни. Рано поутру, когда голова свежа, а мысли светлы, как золотистый солнечный день за окном, вместо того чтобы с пером, чернильницей и бумагой уйти в Венский лес, усесться под буком в пахучей траве и писать, писать, писать, отрываясь лишь затем, чтобы послушать пение птиц и шелест листвы, изволь отправляться в душный и тесный класс, провонявший кислым запахом чернил.
Но что было делать? Куда податься?
Податься было некуда. Чтобы жить, надо трудиться, форма же труда для него была лишь одна – преподавание в школе.
И он преподавал. Изо дня в день, исключая воскресенья.
И писал. Несмотря ни на что. Тоже изо дня в день. Воскресенья включая.
Приходится лишь изумляться жизнестойкости его творческой натуры. Именно в эти годы школьной каторги, с 1814 по 1817 год, когда, казалось, все было обращено против него, им создано поразительное множество произведений. Только за один 1815 год Шуберт написал 144 песни, 4 оперы, 2 симфонии, 2 мессы, 2 фортепьянные сонаты, струнный квартет. И среди творений этого периода немало таких, что озарены немеркнущим пламенем гениальности. Это песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Розочка». Это Трагическая и Пятая си-бемоль-мажорная симфонии.
Рабочий день начинался звонком. Но не кончался им. Много часов спустя после того, как отзвенел колокольчик и вся горластая стая ребят с восторженным ревом и свистом вырывалась на улицу, он все еще продолжал быть привязанным к школе. Не было класса, не было учеников с их писклявыми голосами, но были их безмолвные воплощения – тетради. Кучи тетрадей, неряшливых, заляпанных кляксами, испещренных каракулями, полных ошибок. Ошибок было так много, что трудность заключалась не в том, чтобы выискать их, а в том, чтобы их не пропустить.