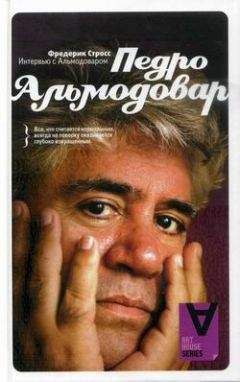Вадим Вацуро - «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина
Это было все, чем располагал или мог располагать Дельвиг летом 1825 года. Свои собственные поэтические запасы он исчерпал почти полностью: в альманах ушли все его стихи последнего времени — кроме лицейской песни, написанной ко дню 19 октября. Это были две «русские песни» — «Две звездочки» и ставший потом знаменитым «Соловей мой, соловей», одно маленькое альбомное стихотворение («В альбом С. Г. К-ой»), большая идиллия «Друзья» и две антологических эпиграммы «Мы» и «Эпитафия». Последняя была надгробным приношением: она была посвящена памяти Софьи Дмитриевны Пономаревой. Дельвиг прощался со своей прежней привязанностью; последний раз на страницах альманаха мелькнет образ этой женщины, которая будет еще некоторое время вызывать запоздалую ревность у Софьи Михайловны Дельвиг. К этому собранию стихов он добавил и два ранних — трех— или четырехлетней давности: уже упомянутое нами посвящение Гнедичу и эпиграмму «Луна»; ранние стихи уже его не удовлетворяли, он не был уверен в их достоинствах и потому не поставил под ними полной подписи, а только инициал[95].
Нужны были поэты, нужны были художники.
И нужен был — по примеру «Полярной звезды» — критический обзор, открывавший альманах. Но как раз критика в дельвиговском кружке не было. Статья Плетнева в прошлой книжке показывала это как нельзя лучше. Как бы ни спорить с Бестужевым, нельзя было не признать, что обзоры его превосходят плетневский во всех отношениях — и прежде всего по ясности и оформленности эстетической позиции. Здесь сказывалась не только разница талантов, но разность самих литературных групп. Кружок Рылеева и Бестужева имел общественную программу — это была теперь программа Северного тайного общества. Она направляла перо литератора, диктуя ему оценки, определяя его симпатии и антипатии. Критическая статья превращалась в декларацию; ее эстетические — а с ними и общественные — идеи читались без труда: национальная литература, гражданский романтизм с неизбежной социальной дидактикой, антидеспотический дух. Если затем в альманахе поместить несколько произведений в этом же ключе — он получит свое лицо.
«Полярная звезда» имела свое лицо.
Она начинала сближаться с журналом— не по внешним признакам, а в самом своем существе. Она проводила свою политику — общественную и литературную.
Мы увидим далее, что слово «журнал» все чаще будет произноситься литераторами, сочувствовавшими Рылееву и Бестужеву. «Северные цветы» не могли перерасти в журнал.
Это был типичный альманах и порождение «века альманахов», исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступить с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы, вероятно, «неформализованной группой», и в ней особое значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей «кружка», но не литературной «партии».
Дельвиг, Баратынский, даже Плетнев были затронуты общественными веяниями декабристской эпохи, они сочувствовали многому, что содержалось в декабристских программах, — и уж, конечно, не сочувствовали ни российскому деспотизму, ни мистицизму, ни засилью цензуры. Они не были и не могли быть принципиальными врагами издателей «Полярной звезды». Но они не могли быть и их единомышленниками и союзниками; они либералы, не революционеры.
Они — романтики, и гражданский пафос не чужд им; он выливается иной раз в резких эпиграммах, как эпиграмма Баратынского на Аракчеева. Они чуждаются мистического романтизма Жуковского, и придворная его служба им не по душе. Но и гражданская поэзия — не их сфера, и они равным образом удаляются от эстетических деклараций декабризма, соприкасаясь с ними лишь там, где речь идет о поэзии Байрона, о неприятии официоза, об устремлениях к национальным поэтическим истокам — к народной поэзии. Именно поэтому они никогда не станут рассматривать Жуковского только под социальным углом зрения и не выступят против него как против принципиального противника. Эстетическая сфера для них более автономна, чем для идеологов декабризма. Здесь идеалы их — аморфнее, абстрактнее — но шире.
Их влечет к себе гармоническая античность — искусство времени наивного детства человечества — так они думают. В этом воскрешении есть нечто от социальных утопий, с их извечными грезами об утраченном золотом веке. Они полны внимания к пластическим искусствам и к живописи. Они не утеряли интереса и к элегии, с ее психологическим и философским началом.
Их искусство — внеполитично, но отнюдь не внесоциально. И сами они вовсе не отгорожены от общественной жизни. Не деяния декабристов, не декларации их, но самый пафос неприятия официальной России уже пустил корни в их среде. На службу правительству они не станут и приютят у себя запрещаемые стихи каторжников. Пройдет несколько лет — и неблагосклонное внимание Бенкендорфа обратится на кружок, которому отныне суждено будет оставаться под вечным подозрением до смерти Дельвига. И подозрения, нужно сказать, будут не совсем лишены оснований. «Неформализованная группа», с ее позицией, скорее отрицательной, чем положительной, в эпоху всеобщих «поправений» окажется хранилищем идей и воспоминаний, о которых следует забыть.
Самая интимность кружка станет чуть что не гарантией его устойчивости.
Но сейчас, в 1825 году, эта интимность контрастирует с накаляющейся общественной атмосферой. В ней «Северным цветам» декларировать нечего. И они никогда не станут журналом.
«Северные цветы на 1826 год» открываются не литературным, а художественным обозрением.
В руках Дельвига был маленький фрагмент пушкинских «Цыган» — отрывок об Овидии.
Он хотел поместить к нему картинку и отправился за этим к академикам живописи. Академики взялись, но ни один не преуспел.
Тогда Дельвиг обратился к Василию Ивановичу Григоровичу, секретарю Общества поощрения художников, человеку весьма замечательному[96].
Василий Иванович Григорович был связан с художниками не только по должности своей, но и своими симпатиями и помыслами. Он был близким другом Ф. П. Толстого, и самая идея общества, которое бы поощряло русских художников и создавало для них аудиторию, принадлежала ему. Он помогал потом и Федотову, и Шевченко, а в 1824 году писал записку о создании национального музея, «Русского музея», дабы споспешествовать развитию русского искусства и отклонять публику от «гибельного для талантов отечественных» пристрастия к «иностранцам». Еще в 1818 году он входил в ложу «Избранного Михаила», где собрались главные члены Союза Благоденствия, а затем был секретарем «Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения»; уже в это время у него установились связи с Ф. Н. Глинкой, Гнедичем, Кюхельбекером, Н. Бестужевым. Вероятно, тогда же он познакомился с Дельвигом и Плетневым; когда в 1823 году он стал издавать «Журнал изящных искусств», он пригласил Плетнева сотрудничать на льготных условиях, и Плетнев печатал у него стихи и рецензии. Они бывали в одних и тех же домах — у Толстого, иногда у Оленина[97].