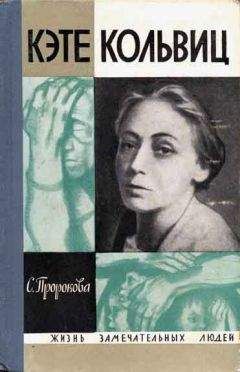Софья Пророкова - Репин
В начале 1871 года «Бурлаки» появились на выставке Общества поощрения художеств. Они произвели огромное впечатление, о них писали в газетах. Стасов провозгласил, что за автором будущее национального искусства. Любители изящного, разумеется, увидели в этой картине дурной вкус, который заметил в лаптях и сермягах новую красоту. О произведении талантливого ученика Академии много говорили.
Но сам Репин остался недоволен. Он еще не все сказал и не так, как хотелось. Картина вернулась в мастерскую, и еще два года художник над ней упорно трудился, прежде чем наступил долгожданный момент, когда он больше ничего не мог прибавить.
Мысль о том, что все можно было бы сделать лучше, не покидала Репина всю жизнь, в каждой картине. Это качество помогало ему двигаться вперед, но порой оно губило хорошие произведения.
Случалось, картина застревала в мастерской на долгие годы. Измененная, обновленная и возмужавшая, она вновь представала перед зрителем, вызывая еще больший восторг. И тогда первый вариант смотрелся, как первоначальный эскиз.
Но случалось нередко и другое. В поисках нового решения Репин так долго мучил холст, что уничтожал в нем все хорошее. Тогда зритель вновь приходил в изумление, но уже от горького сознания непоправимости совершенного.
ОЖИДАНИЕ ЧУДА
«Бурлаки» могли бы стать прекрасным заключительным аккордом ко времени ученичества. Нужна ли еще какая-то другая тема, можно ли от этой другой ждать такой силы вдохновения, такой радости труда? Здесь все, казалось бы, говорило о непременности успеха: большая тема и большое увлечение. Где еще с такой уверенностью мог заявить ученик, что он стал художником, показать свой окрепший талант, доказать, что академическая наука им усвоена блестяще?
Но академики рассуждали иначе. Для программы на золотую медаль снова предлагалась единственная тема, да еще взятая из евангелия. Когда Репин узнал, что может писать только картину, названную «Воскрешение дочери Иаира», у него похолодело сердце. Он был еще полон горечью неудачи, постигшей его с «Диогеном», его воображение иссушили темы древней истории, мифов и библии. Он припал к источнику жизни и оторваться от него сейчас мог только ценой больших усилий.
Его сердце, захваченное «Бурлаками», оставалось холодным к изображению одного из чудес Христа.
Как найти то настроение религиозного экстаза, без которого нельзя даже браться за подобный сюжет?
Репин писал иконы, когда научился этому ремеслу, увлеченный больше поисками смелой новой композиции, эффектами освещения и выразительности, чем собственным религиозным чувством.
А сейчас, когда все его существо потрясено огромностью своей первой настоящей картины, он не мыслил себе, как переключиться на воскрешение легенды.
Да и в самом деле, можно ли придумать что-нибудь полярнее этих двух сюжетов? Жизнь и фантазия вступили в единоборство.
Не отказаться ли вовсе от исполнения программной картины, от надежды на золотую медаль и длительную заграничную поездку? Вспомнилось, как несколько лет назад тринадцать смелых учеников Академии бросили ей свой дерзкий вызов.
Репин уже серьезно подумывал о том, чтобы последовать примеру людей, бывших его духовными наставниками все годы учения. Ничего не решив, поехал на Волгу писать этюды к «Бурлакам».
Сейчас это для него было важнее всего.
Он вернулся, упоенный удачей написанных этюдов, и набросился на свой холст, стремясь быстрее отдать картине тот горячий заряд, какой накопился в нем от единения с природой. Все больше зрело желание отказаться от программы.
Но друзья, среди них особенно Стасов, который поверил в большое будущее Репина, советовали попробовать завоевать золотую медаль, а с ней и безбедную жизнь в течение шести лет.
Приближались и перемены в личной жизни. Репин собирался жениться на юной Вере Шевцовой, которую он узнал по приезде в Петербург девятилетней девочкой. Она выросла на его глазах и теперь стала невестой.
Пришлось взять себя в руки, послушаться разумных советов. Преодолевая отвращение, злясь на рутину Академии и на свою слабохарактерность, Репин начал нехотя компоновать картину.
Воображение молчало, упорно создавая какие-то традиционные напыщенные композиции, которые не вызывали ни малейшего волнения.
С таким равнодушием не возникнет впечатляющей картины. Можно нарисовать все правильно, написать в выдержанных тонах музейной живописи. Не к чему будет придраться с точки зрения грамотности рисунка и верности колорита, а картины так и не будет.
Затянувшийся спор между жизнью и евангелием разрешился неожиданно. Как-то вечером, возвращаясь от Крамского домой, Репин шел, погруженный в свои печальные думы.
Внезапно яркая мысль осветила картину совсем с другой стороны. Репин подумал, что хорошо бы представить себе эту сцену так, как она могла произойти в действительности. Слова евангелия, относящиеся к описанию этого чуда, Репин знал наизусть. Он представил себе Иаира, отца двенадцатилетней девочки. Смерть не пощадила его единственную дочь. Непоправимое свершилось, ни у кого нет сил вернуть девочку. И в дом приходит Христос — великий человек, облеченный даром исцелителя. Он прикасается к застывшим рукам девочки — и жизнь к ней возвращается.
Сцена эта стала для Репина такой естественной, когда он вспомнил о своем первом большом горе, постигшем его в отрочестве: о смерти сестры Усти.
Вспомнилась та особенная торжественная тишина, какая поселилась в их доме вместе с горем. Тишина эта стала такой ощутимой после беспорядочной суматохи предсмертных минут. Все как-то потемнело, затаилось, становилось тягостно-давящим.
Только на мгновение вообразил себе Репин, что случилось, если бы вошел человек и вернул им любимую Устю, прогнал бы смерть, даровал девочке жизнь, — и ощутил взволнованное желание быстрее очутиться один на один с холстом.
Уже много позже, вспоминая об этом душевном повороте, который совершился в нем в тот памятный вечер, он воскликнул: «Есть особое, поглощающее очарование в трагизме!»
Едва дождавшись утра, Репин пришел в мастерскую, взглянул на холст, покрытый многими слоями угля. Четыре месяца он пробовал на нем свои силы и теперь беспощадно стал все эти поиски стирать. Но уголь лежал таким толстым слоем, что было проще оставлять его для темных мест, а белые выбирать тряпкой. Композиция возникла в больших массах света и тени. В борьбе двух начал — темного и светлого — отражение основной мысли картины, единоборства жизни и смерти.
Общая тональность получилась мрачной, резкие удары светлого и темного создавали настроение беспокойства, тревоги. Словно за спиной у молодого художника стоял сам Рембрандт, которому он тогда так преданно поклонялся. Это от него, от великого голландца, воспринял Репин напряженную освещенность своей картины.