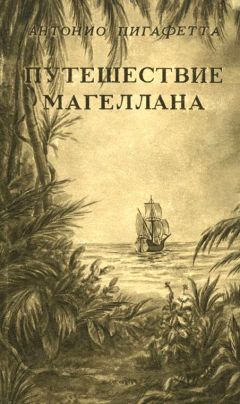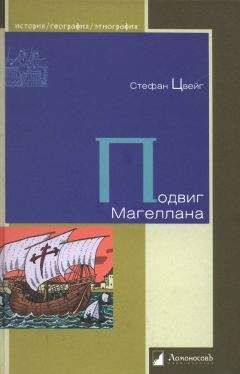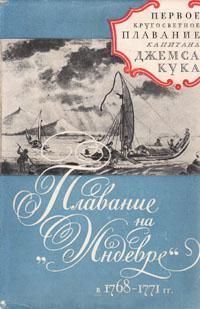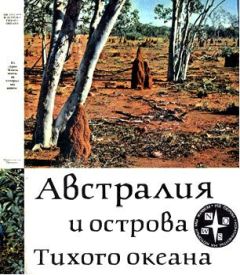Лев Маргулис - Человек из оркестра
16-е декабря.
Ночь спал плохо. Проснулся ночью и больше не мог уснуть. Голова болела меньше. К утру принял порошок. Зазвонили часы 5.15, и Нюра, укрыв меня своим одеялом, ушла. Не помню, слышал ли я известия — утренний выпуск. В полдевятого я встал, съел холодные макароны, оставленные в печке. В 9.30 ушел. Благополучно пришел на Радио. В 11 репетиция{284}. Пошел получил пропуск — временный, а потом и карточки. Ясенявский дал мне 400 гр. брынзы, чтоб я ему принес 200 гр. комбинированного жира{285}. Съел взятую колбасу с сухарями, кусочек брынзы. В столовой беспорядок и жуткие очереди. Около пяти съел блин, отдав 50 гр. крупы. Пил много чаю (без чаю), съел много конфет, взятых из дома, — старых запасов. У меня понос — это не совсем приятно. Слушал лекцию «Война на Тихом океане», и лектор-редактор сказал много многообещающих хороших новостей о Ленинградском фронте. Сегодня я не выходил из Радиокомитета.
17 декабря.
Лег спать около часу ночи. Здесь собираются в нашей комнате. Завтракают, ужинают и разговаривают. <…> В столовой свинство и зазнайство обслуживающего персонала при высоком участии в столовой комиссии. <…> Давали желе без карточек и обещали, что всем хватит, но через час по открытии столовой его не хватило огромному большинству не успевших за это время пообедать. Оказывается, что это умышленное злодеяние было проведено для того, чтоб его на большее время хватило привилегированным, питающимся в отдельной комнате и пользующимся «спецпитанием». Оркестр, налетающий в столовую после репетиции, просто выгоняют, и им приходится в конце дня пользоваться остатками. <…> Встал я рано. Почему я, любитель поспать, не могу спать, имея эту возможность? Нервы? Голод? Непонятно. Но встал я в 6 час. Около 9-ти пошел с Рубанчиком{286} и Аркиным{287} покупать «сен-сен»{288}. Они с этим снадобьем пьют чай за отсутствием конфет и хотели его купить много, чтоб варить кисель. Мне не досталось. По дороге домой купил хлеба на 2 дня — 250 грамм. Завтракал хлеб с брынзой. Умыться нечем было, не шла вода. Света тоже не было. Из-за этого не состоялась репетиция. Зато был шефский концерт в госпитале на Садовой против Гостиного, в Пажеском корпусе. <…> Мы вышли туда около 2-х час. и там обедали. Столовая в духе ДКА, но нет ложек. Я брал ложку Лейбенкрафта и съел 2 тарелки «щей» — воды с редко плавающими листиками хряпы{289}, и 2-е — котлетка с 3-мя макаронами. В 4.30 концерт в холодном зале. Холод ужасающий преследует меня особенно со дня поступления на Радио. Здесь очень холодно, в Филармонии тоже и, наконец, в этом зале. В столовой было все же теплее. Когда мы шли в госпиталь, был обстрел недалеко, но слава богу не тут. Идиотское выражение и подлое, но иначе не могу выразиться{290}. Я ужасно боюсь обстрелов. Боюсь попасть в армию, и я поступлением на Радио, по-моему, не совсем ее избежал, принимая во внимание хамство дирекции, не особенно ценящей свой оркестр. В госпитале встретили Сысоева{291}. Это хорист молодой в Филиале, который после закрытия последнего перешел на Радио и отсюда он, прежде спокойный белобилетник, веривший в скорое окончание войны и возрождение Филиала, был призван и сразу отправлен на фронт. 1-го декабря он был ранен и теперь выздоравливает и скоро его отправят еще раз. У него порок сердца. Он ранен разрывной пулей в лопатку. Рассказывал, как под Дубровкой{292} не удается выбить немцев, как люди ползут на их окопы и как, когда их подталкивают лезть дальше, он оказывается уже мертв{293}. Я вспомнил, как мы рыли вместе окопы под Кингисеппом, и дал ему адрес Носова{294}. Может быть, он устроится в их ансамбле. Я попробовал по дороге домой прикрепить свои карточки в магазине на углу Садовой и Ракова, но неудачно. Дома опять собралась компания и пошло чаепитие и разговоры. Ананян рассказал невероятный случай, как у Елисеевского магазина некто обменял 300 гр. хлеба на 8 конфет. Хлеб ведь гораздо дороже. На рынках ничего не продается за деньги, а все меняется. Хлеб на сахар, на дуранду, мясо на хлеб, теплые вещи и дрова на продукты питания. Хорошие валенки стоят 3–4 кило хлеба. Нюра мне рассказывала, как одна женщина меняла кило шерсти шленки (необработанной) на 200 гр. хлеба.
В нашей комнате накурено и грязно. Утром встретил в Радио Нечаева{295} и говорил с ним, что после войны хорошо бы с ним поездить. Он обещал найти меня здесь. Дешевый разговор. Я заговорил об окончании войны.
Сводки последнее время хорошие{296}. Возможно, что немцев действительно погонят и отгонят от Ленинграда. Тогда откроется дорога. Что тогда будет? Пока нет бомбежек, а тогда? Рубанчик <…> вдруг изрек: «Меняю 3 ложки хрена на 3 ложки кофе». Смех. Я все стоял около разговаривавших, потом лег. Ботинки очень режут около пяток — задники, да и тяжело их носить с галошами целый день. Но не спится. Чувствую ужасный голод и, очевидно, связанный с ним холод — озноб. Руки у меня все время мерзнут и пальцы как ледяшки. Курил, но решительно не хотел есть{297}. Надо оставить на завтра. Но надоело лежать. Встал и стал вынимать табак из портфеля. Лейбенкрафт увидел мой хлеб и удивился величине порции. Я тогда не выдержал и съел кусочек хлеба с брынзой. Скрутил 3 папиросы и вот сел писать. Уже четверть второго. Аркин разговаривает о политике с Рубанчиком. <…> …Только бы пережить войну. Это очень трудно, хотя в связи с нашим наступлением это стало более возможным. Никак не могу отправить письмо Мусе. Боюсь улицы и обстрелов. Боюсь идти домой — там обстрелы и повестки.
18-е декабря.
Опять лег поздно и встал рано, в 6 час. Известий последнее время не слушаю и газет не приходится читать{298}. Руки все время закоченелые. В пальцах рук и ног все время колет как иглами. Холодно все время: сидишь, лежишь и даже когда ходишь. Хочется есть. Очень чувствительно, что я не бываю дома, особенно в этом отношении. Утром прикрепился у Елисеева{299} в магазине и наконец послал письмо Мусе. На репетиции замерзал больше, чем когда-либо. С репетиции пошел в ТЮЗ. Они улетели 15-го вечером. Денег нет и будут только через неделю. Там была телеграмма от Муси: «Телеграфь здоровье». Завтра утром отвечу. Передал мне ее Ерманок. <…> Неужели мы с Шифманом более несчастливы, чем они с Шером? Неужели после всех чудес я все-таки должен погибнуть и не дожить до лучших времен? Обедал в ДКА. Взял 2 порции 2-го: хорошие кусочки свинины. Но если был бы хлеб. А без хлеба — это одно раздражение. По дороге домой зашел к Любе. Она стояла во дворе. Хотела пригласить в комнату, но я не пошел. Соломон теперь со своим полком на Сясьстрое{300} восстанавливает железнодорожный путь. Писал о чудовищном переезде через Ладожское озеро, который ему запомнится на всю жизнь. Не знаю, от холода или обстрела и бомбежки. Наверное, и то и другое. Говорят, что ветром там сносит машины. Во всяком случае он пишет, что теперь они в лучших условиях. Очевидно, в смысле еды. Когда, наконец, и мы воспрянем? Вчера на лекции Штейнгауэр сказал, что Новый год мы будем встречать хорошо и, по его словам, к весне все должно кончиться. Дай бог, но это маловероятно. За обедом видел у соседа немецкие деньги. Как только пришел в Радио (хотел идти домой, но что-то удерживало), начался обстрел, довольно сильный, длившийся около получаса. Я сбежал с 6-го этажа вниз. В 6 час. пошел с Лейбенкрафтом в магазины. Он в свой, а я к Елисееву. Взял 140 гр. брынзы, спички и мыло. Соли не было. Когда пришел обратно, съел половину своего бутерброда со свининой и завтрашним хлебом. Звонил к Нюре и дозвонился. Хотя не говорил с ней, но обещали передать, что завтра буду ночевать дома. Старик, сидевший против нас вечером за столом, брал у Рубанчика соль и ел ее как конфеты (наш сосед в комнате). Я не удержался и съел добрую половину купленной брынзы. Когда старик увидел мою свинину, он ушел из комнаты. Мои соседи питаются водой. Аркин, поздравлявший всех [с] нашими победами, сегодня в более умеренном настроении. Ленинград если и освободится, то, во всяком случае, не скоро. Когда подумаешь о смерти, то все страдания кажутся пустяками и хочется во что бы то ни стало выжить. Ведь я все-таки, благодаря шефским концертам и Нюре, менее их истощен. Мне кажется, что я не скоро должен сдать. А сколько опухших у нас в Радио. Жена Элиасберга{301}, парикмахер и много других. Когда подумаю об отъезде ТЮЗа, я им желаю всякого зла, но я рад за Сашу Германа. Бедняга ужасно распух{302}. Помоги ему Бог поправиться. Я вспомнил помрежа ТЮЗа Белопольского{303}, умершего от голода и сумасшествия на его почве (информация Ерманка).