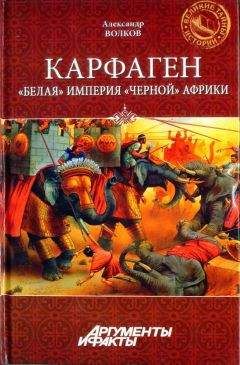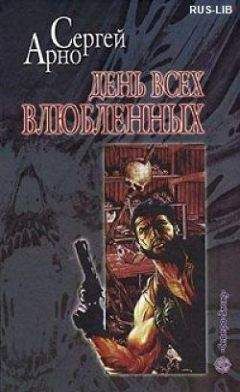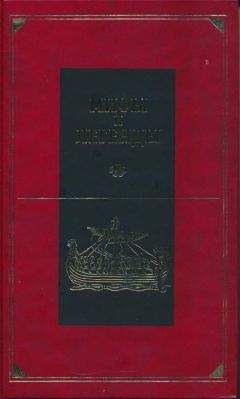Юлий Оганисьян - Абд-аль-Кадир
Положение меняется, когда указанный взгляд переносится с собственной личности на личность ближнего. Взгляд этот тотчас же обретает всю силу внемирской отрешенности. Новый объект воспринимается так, словно правоверный глядит на него через дырку в воротах рая, изнутри, конечно. И этот объект, естественно, под взглядом с занебесья превращается в исчезающе малую величину. В итоге нравственные связи между людьми рвутся, человек отчуждается от человека и остается наедине с самим собой, отчего, между прочим, происходят типичные для мусульманских стран формы необузданного произвола отдельной личности — от деспотизма главы семьи до тиранства государственных правителей.
Но опять-таки в обыденном мире отчуждение нравственных связей между людьми в относительно чистом виде может иметь место разве только в какой-нибудь общине дервишей. В целом же в обществе религия, какими бы пожарами она ни полыхала, не может до конца выпарить эти связи в замогильную пустоту! Ибо они имеют слишком цепкие земные корни, уходящие вглубь трудовых и иных мирских отношений между людьми. Религия, как и всякая слепая вера, обычно лишь иссушает эти связи. Излученный от них в результате этого образ становится автономной областью человеческого сознания. Отсюда раздвоение личности на мирскую и религиозную, каждая из которых воспринимает внешний мир по-своему. Первая — непосредственно, как он есть, вторая — каким он ей видится в озарении внеземного идеала.
Эта раздвоенность очень четко выражена в письме Абд-аль-Кадира французскому генералу. Эмиру по-человечески жаль своих воинов, попавших в плен. Здесь он мирской человек. Но тут же он бездушно отрекается от них: чего о них заботиться, если даже в худшем из мирских случаев — смерти — они лишь обретут «новую жизнь». Здесь он человек религиозный.
Замечательно во всем этом то, что самосознание эмира сохранило мирское человеческое начало. Не было бы в том ничего удивительного, если бы речь шла о простом правоверном. Но ведь Кадир был религиозным вождем! Махди! Мессией! Человеком, которому с пеленок прививали мысль о его высшем назначении. За которым всю жизнь влеклась религиозная легенда. Которого, наконец, само положение в обществе возвысило над ближними. И над какими ближними! Ревностно религиозными. Желавшими видеть в своем вожде идола. Заведомо отрицавшими за ним право на все то мирское, что дозволено им самим.
Сохранить при этом человечность невероятно трудно, почти невозможно. Не говоря уж о тьме деспотов, больших и малых, которыми усеяна история религиозных обществ, эту истину может удостоверить жизнь любого власть предержащего поборника религиозной идеи. Даже в том случае, если сама по себе идея чиста и величественна, а ее поборник исполнен самых благих намерений, он должен быть истинно великим человеком — великим деятелем он может быть независимо от этого, — чтобы остаться в коей-то мере по-мирски человечным.
Заурядный человек, одержимый религиозной идеей, неизбежно становится ее рабом. Ничто мирское не заставит его изменить Идее — его госпоже. Рано или поздно для такого рыцаря идеи подданные становятся безликими знаками, которые можно зачеркнуть, стереть, переписать, если то будет угодно его повелительнице. В конце концов инквизиторы были подлинными рыцарями христианской идеи. И кроме того, большими пуританами.
Абд-аль-Кадир не относится к этой категории воителей за чистоту веры. Его личность отчетливо проявляется не только в деяниях религиозного вождя, но и в общественно значимых поступках мирского человека. И если а первой роли он выступал как орудие идеи ислама, то во второй роли он был выразителем мирского сознания своего народа, соединяя таким образом в своей личности религиозного мессию и народного героя.
Однако в реальной жизни психически здоровая личность всегда выступает практически как единое целое. Она может являться миру — по собственной ли воле, в силу ли обстоятельств — в различных ипостасях, относясь при этом, однако, как целое к части, к любой из них и сохраняя свое внутреннее единство. Ибо она имеет свою неразложимую константу — человеческий характер, который образует связующее единство всякой личности, индивидуально обособляет ее, составляет главное условие сохранения ее целостности в столкновениях с внешним миром или в периоды внутренних духовных кризисов.
Именно характер нашего героя соединяет в его личности, казалось бы, несоединимое: фанатичную религиозность и трезвую реалистичность, мессианскую отчужденность и мирскую человечность. Благодаря своему характеру, впитавшему в себя силу и чистоту патриархальности племенной среды, закаленному религиозным подвижничеством, обретшему гибкость под воздействием жизненных испытаний, Абд-аль-Кадир, в зависимости от условий и обстановки, мог выступать в различных ролях, оставаясь всегда самим собой и сохраняя цельность своей личности.
Характер Абд-аль-Кадира был сильнее его призвания. Поэтому его личность была значительнее любой из ролей, в которых жизнь вынудила его выступать. И даже больше главной из них — роли религиозного вождя.
Это обнаруживается уже в начальный период деятельности эмира.
После того как арабам удалось запереть противника в приморских городах, Абд-аль-Кадир решил окончить войну одним ударом. Но выполнить это решение он понадеялся весьма своеобразно. В конце 1833 года эмир направил генералу Демишелю послание, в котором приглашал его к единоборству в открытом поле. «Если Вы сделаете двухдневный переход от стен Орана, — писал Кадир, — я встречу Вас, и пусть поединок решит, кто из нас останется хозяином на поле битвы».
Наивно? Конечно. Глупо? Ни в коем случае. Разве не мудростью и не благом ли для народов было бы решать войны единоборством вождей? И разве были бы сами вожди столь воинственны, если бы они знали, что им первым придется подставлять собственный лоб под удар? Как скоро и какой малой кровью кончались бы войны! Но это уже из области идиллических утопий. Абд-аль-Кадир не был утопистом. Просто он был человеком другого мира, где здравый смысл еще не был оттеснен в область утопий.
Приглашая французского генерала на рыцарский поединок, эмир надеялся одержать победу в «священной войне». Но самое его рыцарство шло здесь не от ислама. Это было скорей былинное, языческое рыцарство, истекавшее из доисламских народных представлений о войне. Эти представления стали пережитками уже в эпоху крестовых походов, когда столкновения между европейскими и восточными странами происходили в форме религиозных войн.
С тех пор Европа претерпела превращения, о которых лучше всего сказать словами «Коммунистического манифеста»: