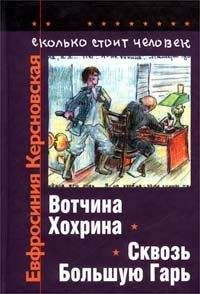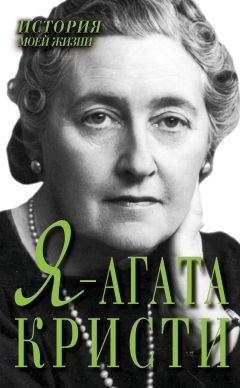Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь девятая: Чёрная роба или белый халат
У нас были две разновидности хозяев: лагерь и производство, то есть горно-металлургический комбинат.
В упрощенном виде это можно представить так: те, кто нас угнетает, и те, кто нас эксплуатирует.
Не надо сгущать краски: не всякий рабовладелец обязательно жесток и беспощаден. Это не в его интересах. Но если производства были рабовладельцами, то лагерь был работорговцем. Впрочем, и это не совсем точно: лагерь не продавал свой живой товар, а отдавал его в аренду; рабовладелец же был лишь временным хозяином, он платил лагерю за аренду, но распоряжаться нашей судьбой не мог.
В Норильске это было особенно заметно, так как наша продукция была первостепенной важности, особенно во время войны, ведь Норильск давал 60 процентов всего никеля страны.
А медь, кобальт? А уголь для североморского транспорта? Это не то что ложки, деревянные гребешки и портсигары в мастерских на материке, в Межаниновке например. Там умри все заключенные — и это безразлично: освободится место для других. Свято место пусто не бывает!
Иное дело Норильск.
Во-первых, пополнение сюда прибывало в трюмах и в баржах североморским путем или по Енисею, а период навигации очень короток.
Во-вторых, в шахтах, рудниках и горячих цехах люди приобретают квалификацию, и производства дорожили квалифицированными кадрами.
Сначала были просто ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря: обычные, усиленного режима, штрафные командировки.
Но наше «бесклассовое» государство одержимо манией разделять всех на классы — и привилегированных, и «деградированных». Так возникли сначала КТР, затем Горлаг[10]. И то и другое, в свою очередь, продолжало делиться на своего рода подклассы. Происходило это как-то закулисно. До нас это доходило в виде недомолвок, полудогадок, полузагадок, и, откровенно говоря, всего этого я так до конца и не поняла. По каким признакам тех или иных людей вдруг вызывали на этап и угоняли в неизвестном направлении?
Правы были деды, когда пришли к заключению: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».
Казалось, уж мне ни то, ни другое не угрожало. Пусть не было у меня роскоши, но от нищеты-то я могла «заречься»: ну, недород, ну, пусть пожар, но не семь лет подряд, как во сне фараона?! Но выгнали нас с мамой из дому — раздетых и разутых, даже без сумы!
И все же никогда бы мне в голову не пришло, что и тюрьмы мне не миновать. Однако и через это пришлось пройти.
Но даже в неволе, на самом дне этой ямы, и то никак нельзя было зарекаться от какого-нибудь нового, неожиданного и незаслуженного удара. Тогда, когда его совсем не ждешь. И оттуда, откуда, казалось бы, тебе ничто не угрожает. Это одна из особенностей советского правосудия.
Рыбный садок, или Плачут ли от радости
Какие страхи терзали нечистую совесть Сталина и какими методами пытались его клевреты — Берия, Абакумов и Кo — создать для него иллюзию безграничного могущества и абсолютной безопасности, никто из нас не знал. На нас только время от времени сыпались удары. Ни избежать их, ни уклониться, ни хотя бы спросить «за что?» мы не могли.
Среди нас были две японки, обе учительницы. Маленькие, хрупкие, как куколки. Ночью их вызвали и увели. Стороной мы узнали, что они расстреляны. И для шахты 13/15 наступил черный день: по каким-то там «статейным признакам» очень много шахтеров, и притом лучшие работники — бурильщики, механики, слесари, были угнаны этапом туда, где формировался этот самый Горлаг.
Докатилась очередь и до наших девчат.
Нас, женщин, в шахте работало 200–240 «голов». Бытовичек было не больше 40; из числа остальных, политических, — процентов 60–70 хохлушки, так называемые «бандеровки». История когда-нибудь скажет свое слово (может быть, даже уже и сказала, только мне оно неизвестно?) о том смутном времени, когда украинцы и поляки, находясь между молотом и наковальней — СССР и Германией, — боролись по принципу «все против всех». Настоящей бандеровкой, боровшейся с оружием в руках, была одна Галя Галай, остальные — самые обыкновенные деревенские девчонки. Их целыми семьями судили за то, что кто-то из них «знал и не донес» на брата, отца, жениха-самостийника. Или хлеба дали, крынку молока, или рану перевязали какому-то бандеровцу, скрывавшемуся в лесу.
Каждый лагпункт напоминал рыбий садок.
Податься было некуда, а черпак хозяина раз за разом погружался в садок и выхватывал то того, то другого.
Черпак погрузился, и десятка полтора-два девушек, бледных и растерянных, стоят в ожидании отправки. Казенные вещи сданы; свои — увязаны в узелки, котомки или фанерные чемоданчики, перевязанные бечевкой.
Дежурнячки роются в них, как шакалы, отбирая все, что не было внесено в категорию «личных вещей», когда девчата прибыли на лагпункт «Нагорный»: сапоги, «москвички»[11], юбки, купленные на свою грошовую зарплату, выменянные на хлеб, а чаще всего — подаренные «мужьями».
Но не это огорчает их больше всего! Нет, не это… Каждая из девчонок оставляет в Угольном Оцеплении близкого человека — «мужа», хоть и лагерного.
«Мужья» делились на три главные категории.
Вольняшки — горные мастера, взрывники и прочая «холостежь», главным образом из числа недавно освободившихся.
Почти все они имели в самом Оцеплении (чаще всего — на РОРе) свои балки, куда к ним и приходили их «жены» на часок-другой после работы или оставались в оцеплении до следующего развода, если удавалось уговорить подругу выйти с разводом за оставшуюся — для счета на вахте. Вольняшки самым бессовестным образом водили за нос своих «жен».
Рассуждали они так: «Вольных женщин в Норильске мало. Да они и носом крутят, их и содержи, и одевай: пальто зимнее, пальто демисезонное, платье, то да се. А заключенной? Килограмм сахара, полкило масла в месяц, юбка, сапоги, да на лето ситчик на платье. А уж она старается! Ублажает, не ворчит, а если забеременеет, то это уж не мое дело. Пусть рожает или аборт делает. Мне-то что?»
Вторая разновидность (и таких большинство) — это заключенные более или менее обеспеченные: мастера, разные завы, бригадиры или просто горлохваты, которые могут чего-то там перехватить у вольняшек, выполняя их работу в шахте, или могут что-либо выжать обманом или шантажом у своих подчиненных и таким путем заиметь «плевательницу», в которую можно выплюнуть свое семя.
Наконец, те, кто действительно нашел себе пару, которая и впрямь мнится ему самой подходящей для роли жены. Но их меньшинство.
У бытовичек было даже по нескольку «мужей». У политических (если не считать большую часть «военных») это совсем иное дело: они всерьез считали, что эти лагерные мужья и по-настоящему их мужья, и тот, кто освобождается первым, будет ждать.