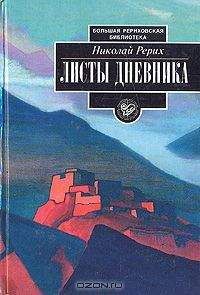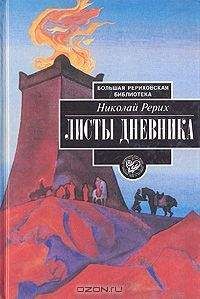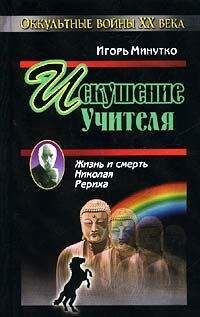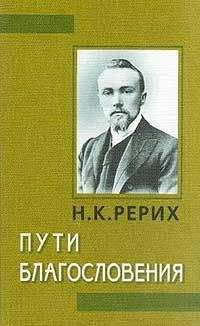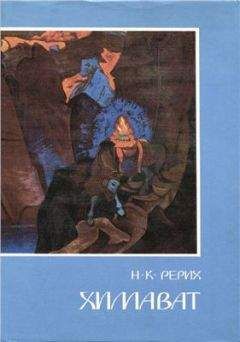Эдуард Тополь - Мой прекрасный и проклятый «Пятый параграф»
– Ну что, Паша? За кого же мне замуж идти? Этот молодой, как теленок, а Федор Михайлович нищий. Может, ни за кого не идти?
А Паша отвечает:
– Ну как же так, мама? У всех есть папы, а у меня нет…
И Мария вышла замуж за Достоевского.
А моя мама вернулась к папе.
Из-за одной реплики.
Полтава
В Полтаве, в 1947 году я впервые увидел войну. Город лежал в руинах – так, словно немцы ушли отсюда вчера. Фрунзе, Октябрьская и все остальные центральные улицы стояли шеренгами четырехэтажных кирпичных остовов с проломленными при бомбежках кровлями и выбитыми окнами, и завалы битого кирпича да красная кирпичная пыль лежали на искореженных мостовых.
А по этим улицам, вдоль разбитых, как черепные коробки с пустыми глазницами, домов, в город, знаменитый крутыми украинскими погромами и шведской битвой, шли беженцы-евреи – они возвращались на свои пепелища, толкая перед собой тележки с обшарпанными фибровыми чемоданами, узлами и баулами. Сверху на узлах сидели дети, сзади, держась за юбки матерей и пиджаки стариков, тоже шли дети, и я никогда не забуду того старика и старуху с жалким скрипучим столиком от швейной машины, нагруженным каким-то нищенским скарбом, – они шли, плакали и пели. Я не знал тогда, что они поют, это было что-то гортанное и совершенно непонятное мне, мальчишке из подвала, где в одной комнате, освобожденной нами от битого кирпича, мы жили еще с тремя семьями. Я смотрел на них с высоты разбитой кирпичной стены и не понимал, как тут можно петь («Мама, они что, мишигине[2], что ли?). Но этот гортанный мотив и вся эта картина с плачуще-поющими еврейскими стариками, толкавшими перед собой станок швейной машинки «Зингер» с нищенским багажом, – эта картина упала мне в сердце, и я несу ее всю жизнь, из книги в книгу, из «Любожида» в «Римский период…». У старика были почти слепые глаза, куцая борода, но хороший, звучный голос. И на этот голос мы, пацаны, вылезали из подвалов и бомбоубежищ.
– Эй, мишигине коп[3]! Ты шо, здурив?
Тридцать пять лет спустя другой великий старик – Леонид Утесов напел мне песню, которую пел тот старик в Полтаве 47-го года, и оказалось, что эта песня – «Хава нагила». Мы ехали с Леонидом Осиповичем из Болшевского дома творчества кинематографистов в Москву, и всю дорогу Утесов, увлекшись, читал или, точнее, напевал мне лекцию по истории советских шлягеров: спев куплет из Исаака Дунаевского или братьев Покрасс, он тут же демонстрировал, что эта мелодия – очередной перефраз еще одного еврейского танца, который до революции играли на свадьбах маленькие еврейские свадебные оркестры.
Позже, в романе «Русская дива», я опишу подробно и эту поездку, и даже построю на биографии братьев Покрасс, рассказанной мне тогда Утесовым, целую сюжетную линию…
А тогда, в 47-м…
Я до сих пор не могу понять, как мог мой отец – ведь ему было уже 42 года, – как он мог вызвать из теплого, благополучного Баку жену и двух детей и поселить их среди полтавских руин, в бомбоубежище, разделенном простынями на четыре угла для четырех семей…
Впрочем, через какое-то время мы оттуда выселились, отец купил «дом» – четвертушку украинской хаты-мазанки, где у нас было две крохотных комнатки и такая же кухонька с низкими потолками, беленными известкой стенами и настоящей печью, которую нужно было топить углем и дровами. Топила эту печь, конечно, моя мама – она же колола дрова и ведрами таскала для печки уголь из сарая (у нас во дворе были две секции общего с соседями сарая, там в одной секции мама держала уголь и откармливала в клетке гуся, а в другой отец хранил свои «стеклышки» и «волшебные проекторы», которые он скупал на развалах гигантских послевоенных полтавских ярмарок).
Нашими соседями по хате были семейство Гринько с двумя пацанами чуть старше меня, Витей и Толей, и тетя Зина – она, по рассказам, жила во время войны тем, что первой пробиралась на места массовых расстрелов евреев, раздевала еще теплые трупы, отстирывала снятую одежду от крови и продавала ее на рынке.
Меня, как маленького, рыжего, да еще «жиденка», Витя, Толя и другие соседские мальчишки поначалу игнорировали, но потом все-таки стали принимать в свои футбольные игры, но только на роль вратаря. Поскольку обе команды играли в одни ворота – мои, у красной кирпичной стены соседского сарая, то можно представить, сколько мне доставалось скрытых ударов ногами в живот, под дых и по ребрам. Но я терпел, мне очень хотелось дружить с ребятами, быть среди них своим, лазать с ними в соседский сад за яблоками и бегать на Ворсклу купаться. Однажды, пытаясь доказать им свою вратарскую квалификацию, я героически бросился на мяч и до кости ободрал себе локти о гравий и битое стекло, которое кто-то предупредительно рассыпал перед моими воротами.
Но и это не отвратило меня от футбола. Отвратило другое.
У Вити и Толи была собака Пальма. Это была небольшая черная дворняжка – помесь, наверное, благородной таксы с каким-нибудь собачьим плебеем. У нее были карие, умнейшие, навыкате глаза, мягкая короткая шерсть и замечательный характер – она с самого начала приняла и меня, и особенно мою сестренку Беллу, которая постоянно выгуливала во дворе свою деревянную коляску с двумя тряпичными куклами. Если у меня Витя и Толя еще были в приятелях, то у Белки была только одна подружка – Пальма. С Пальмой Белла нянчила своих кукол, разговаривала и вообще дружила. Наверное, поэтому летом, когда мы обедали в общей, во дворе, беседке, Пальма всегда усаживалась с нами, как полноправный член семьи. И вообще Пальма была душой нашего двора – она могла и за мячом побегать, и каких-то захожих алкашей отогнать, и встретить меня из школы…
Но однажды с Пальмой что-то случилось – она стала как бы не в себе, глаза замутились, характер испортился, озлобился, а из пасти стала капать пена…
Дядя Вася Гринько, отец Вити и Толи, сказал, что ее покусали бешеные собаки, но не повел ее ни к какому ветеринару, а привязал у кирпичной стены – как раз там, где были мои футбольные ворота. Потом он принес ружье и…
Глядя через окно, я видел, как Пальма, взвизгнув, подскочила от его выстрела, упала, вытянулась и издохла. А утрамбованная моими коленями земля впитала ее темную кровь.
Больше я на том месте не мог стоять на воротах и потому перестал играть в футбол, даже не выходил, когда Витя и Толя звали меня.
Сидя дома, я стал читать книги.
Книги в нашей семье играли особую роль.
Маме они заменяли подруг, а отцу горилку. Откуда у моей еврейской мамы могли появиться подруги в Полтаве, знаменитой своими погромами? Когда я теперь, обратным отсчетом, пытаюсь представить себе ее жизнь – с этим углем, с дровами, с сортиром на улице, с гусем или поросенком в сарае, с хождением на рынок и с рынка с тяжелыми кошелками, с постоянной готовкой еды летом на керосинке, а зимой – на печи, с боязнью за двух детей, которых в любой момент могли избить (и били) на улице только за то, что они «жидинята», с еженедельной стиркой вручную и купанием нас всех в цинковом корыте, а потом, в 49-м, еще и с хлебными карточками и ночными очередями за хлебом, – когда я думаю, что вся эта бесконечная, надрывная, круглосуточная круговерть и составляла ее жизнь в ее 32 года, 35 лет и в 37, и так это длилось до самой ее преждевременной, в 56 лет, смерти, – когда, повторяю, я думаю об этом, мне становится не по себе так, словно я, именно я загубил свою золотую, свою дорогую маму…