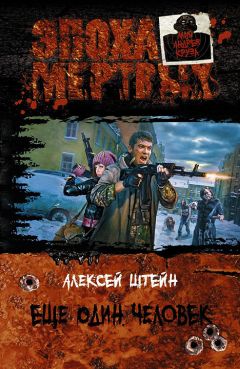Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Столетний юбилей воскресил память Филарета; появились характеристики, воспоминания, поднята его жизнь, отношения к родным и сами родные его. Что касается родных и родителей, нельзя не сказать против некоторой преувеличенности в описаниях. Не для того, чтобы положить тень, а для того, чтобы восстановить истину с мясом и костями, по совести должен упомянуть, что родители приснопамятного владыки были люди со слабостями. Они не гнушались приносами кизлярской водки и сами не прочь были выкушать. Михаила Федоровича относили, случалось, на руках домой из лавок около Пятницких ворот. Так говорила Коломна. Авдотья Никитична, вдовая протопопица, когда жила в трех шагах от нас у сына своего Никиты Михайловича, была тоже как все уездные протопопицы старого времени. Но к чести ее надо сказать, что сиянье сына как бы озарило и ее. С переездом в Москву, под бок к высокопреосвященному сыну, чтимому всею Россией, она приподняла свой образ жизни, чтобы не ронять владыки (она была умная женщина). В Москве Авдотьи Никитичны и невестки ее Анны Ксенофонтовны не могли узнать те, которые зазнали их и бывали у них в Коломне.
За посещением Филарета, скоро ли, долго ли, последовала награда Михаилу Федоровичу необычайная: крест «за заслуги или за дарования сына или что-то вроде этого. А Иродион Степанович вознесся, особенно по смерти тестя. Он был произведен на место его в протоиереи, в смотрители училища, в благочинные и удостоился ордена. В училище я едва-едва его не застал; но помню его, когда он раз, благочинным, приезжал в нашу церковь для осмотра и зашел к нам в дом. Увидев меня, спросил, учусь ли я. Я сидел на азбуке и помню, как теперь, что стоял на титлах и именно на словах „Милость, Милосерд“. Заставив меня прочитать, Иродион Степанович погладил меня по голове, сказал тенором, переходящим в баритон: „Хорошо, братец“, и я заметил его орден — красноватый крест на ярко-красной ленте с желтыми каемками. Эту диковину я в первый раз тогда видел и долгие годы потом не видал. Это было в 1828 году.
ГЛАВА VIII
ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД
После всего писаного о Двенадцатом Годе многое ли могу добавить своими рассказами? Но я не хочу умолчать о простодушии моих земляков. Черкизово также бежало от нашествия; но куда? В лес, и что замечательно — всего за полверсты. Туда перешло все село с лошадьми, скотом, пожитками и расположилось табором. Скот выпускали на пастьбу, как обыкновенно, а ранним утром, перед светом, осторожно выходили из леса дозорные и с опушки смотрели на оставленные слободы: не шевелится ли кто-нибудь, нет ли неприятеля. Меня занимает психология этого происшествия; в общем оно повторялось повсюду, но, может быть, нигде с такою потерей здравого рассудка, как в Черкизове. Повторена была известная история страуса, прячущего голову, чтобы его не видели. Ту же историю отец мой рассказывал, как подлинное происшествие, о чьем-то теленке в Черкизове, проходившем зажмурясь чрез сени. Повторяя своего теленка, черкизовцы всем селом и на довольно долгое время (несколько недель) совершали то же, что бывает при пожарах и вообще неожиданной опасности. Но растерянность отдельных единиц на несколько минут объяснима; продолжительный же период отсутствия сообразительности у целого населения — задача психологическая.
Собрались убираться из Коломны. Зарево осветило северо-запад, и дошла ошеломляющая весть: «Москва горит, и там неприятель!» К Никите Мученику внезапно нахлынули гости на нескольких подводах. В Москве был у батюшки свояк Алексей Михайлович, дьячок от Иакова Апостола в Казенной, женатый на старшей дочери Федора Андреевича. Москва вся готовилась к бегству, и бежал всяк, кто мог. Иерей от Иакова Апостола в числе других подумывал, куда направить путь. Алексей Михайлович предложил своему «батюшке», не убраться ли им вместе в Коломну: «Я дума: туда, если не в самый город, то в село; там два свояка у меня». Одобрил иерей намерение. Снарядились. Случай привел яковлевского батюшку где-то видеть, во время самых сборов, еще священника, из другой стороны города, от Пятницы на Божедомке, близь Пречистенки. «Тоже собираюсь, — говорил Лука Милохоров (Божедомский), — только не знаю, куда: не возьмете ли с собой?» Таким образом целый караван нагрянул на маленький двор у Никиты Мученика. И не совсем кстати. Наши тоже убирались. Шли хлопоты о спасении церковных драгоценностей: снимали оклады и ризы с больших икон, малые целиком укладывали в сундук: облачения, сосуды убирали, и все это поместили в подвал под церковию. Предание не дошло до меня: зарыты ли были сундуки, или поставлены в подвал на открыше, с повторением черкизовского теленка.
Когда объявлено было московским гостям, что и здесь им не предстоит оседлости, они отвечали: «Куда вы, туда и мы: мы от вас не отстанем, благо, нашли приют; вы все-таки здешние, а мы на чужой стороне, не знаем, как и что». Батюшка между тем заранее решил семейным советом переправиться в Княжи, погост за несколько десятков верст, стоящий в лесу, среди болота. Кажется, это уже в Рязанской губернии, за Окой. Там дьячком был родственник. Выбор был сравнительно удачный, насколько позволяли обстоятельства: неприятель в эту глушь не пойдет, тем более — и поживиться там нечем. Прибрав церковь, батюшка вручил ключи богобоязненному мещанину-прихожанину с наставлением беречь церковное добро и хранить тайну (дьячки тоже разбежались). В доме ничего не убирали, только привесили замок к сеням.
Отправились в Княжи; прожили там сентябрь. Время проходило нескучно. Гости московские приехали и с запасами, и с деньгами; были и карты; преподаны были уроки в нескольких играх, которых коломенские не знали (да и карт у них вообще не водилось); прогулки по лесу доставляли тоже своего рода отраду. Возврат последовал, когда от гонца, нарочно посыланного в Коломну, получено известие, что «все спокойно».
Было не только все спокойно, но оказалось и все сохранно. Не дохваченный на дорогу кувшин с молоком, случайно оставшийся на крыльце, стоял в том же положении; только вместо молока в нем была уже сметана.
Пребывание московских гостей составило своего рода эпоху в домашнем быте Никитских. Столичные отцы держались некоторых обычаев, дотоле неведомых нашим. Одно из существенных отличий, поразивших тогда брата моего (уже восьмилетнего), был ежедневный чай. Распивание его было для наших чем-то вроде торжественного богослужения. Яковлевскйй иерей подзывал ребят, давал им по куску сахару, с наставлением, как его употреблять. Научил, что после второй чашки (больше детям-де не полагается) нужно накрыть чашку донышком кверху; это-де означает «довольно». Затем должно «благодарить», то есть подойти и поцеловать руку. Наставления просветителей соблюдались коломенскими малютками свято и послужили кодексом правил на дальнейшее. Много и в одежде они увидали нового, невиданного; с почтительным удовольствием смотрели на карманные часы, о которых прежде не имели понятия, любовались на складное зеркало.