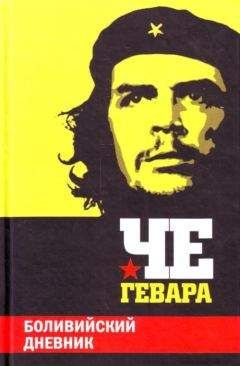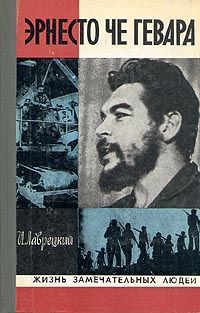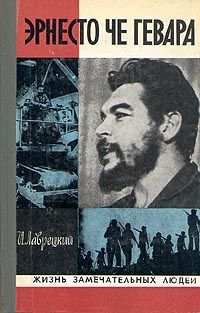Ольга Елисеева - Екатерина Дашкова
Доказывать, что роль Дашковой в заговоре была иной, чем рассказано на страницах мемуаров, — ломиться в открытую дверь. Гораздо интереснее ответить на вопрос: почему Екатерина II позволяла своему «неоцененному другу» оставаться в заблуждении и до определенного момента даже поддерживала иллюзию? По словам Рюльера, императрица незадолго до переворота посоветовала Орлову сблизиться с княгиней, и та, не подозревая о связи подруги с этим человеком, сама представила его государыне как одного из заговорщиков. «Орлов, сделавшись… настоящим исполнителем предприятия, имел особенную ловкость казаться только сподвижником княгини Дашковой»{140}.
Следовательно, спектакль был выгоден. До роковой черты августейшая тезка хотела, чтобы Дашкова видела в себе главу комплота. А та пошла на поводу, ибо желание государыни совпадало с ее собственным. Когда карты открылись, элементарное самоуважение не позволило Екатерине Романовне гласно признать ошибку. Она испытала жгучее унижение, оттого что была обманута. Другая на ее месте промолчала бы, желая сохранить лицо. Или потребовала объяснений. Наша героиня начала настаивать на реальности иллюзии. И билась отчаянно, до последнего вздоха. «По восшествии на престол она (Екатерина II. — О. Е.) писала польскому королю (Станиславу Понятовскому. — О. Е.)… что я на самом деле не более как честолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве».
Императрица действительно оказалась знатоком человеческих душ, подловив подругу на склонности к самообольщению. В качестве номинального руководителя заговора Екатерина Романовна сделала больше, чем сделала бы, считая себя рядовым участником.
В мемуарах есть примечательный рассказ об ограблении: «Через два дня после отъезда князя со мной случилась неприятность. Я оставила при себе немногочисленную прислугу; какие-то матросы, работавшие в Адмиралтействе в Петербурге, взломали окно комнаты, где горничная хранила мое белье, платье и даже деньги… Они унесли все белье, все деньги и шубу, крытую серебряной парчой; благодаря этой шубе воры были впоследствии отысканы, но все-таки я осталась без денег и без белья… Мне тяжело было занимать деньги и этим увеличивать долги моего мужа»{141}.
Что настораживает в приведенном рассказе? Деньги сами по себе. В феврале 1762 года Петр III заявил о желании ввести ассигнации, но первые бумажные купюры поступили в обращение накануне переворота, так что гвардейцам, принявшим участие в заговоре, жалованье выдали в том числе и новыми «билетами». Многие не знали их цены и, посмотрев, отдавали обратно. В момент грабежа деньги, остававшиеся на руках у княгини, были металлическими. Их нельзя было ни спрятать среди белья, ни хранить в гардеробной — они занимали слишком много места. Хрестоматиен пример М.В. Ломоносова, который получил за оду Елизавете Петровне в подарок 500 рублей, и ему привезли во двор телегу, груженную монетами разного достоинства. Деньги Дашковой должны были занимать сундук, выволочь который и унести через окно, не привлекая внимания домочадцев, соседей, целой улицы, не представляется возможным.
Если учесть, что эпизод с ограблением имеется только в одной редакции, то его следует отнести к вставным. Княгиня сама разрешила Марте Уилмот дополнить мемуары теми случаями, которые она просто рассказывала сестрам. Марта в начале XIX века не знала тонкости с металлическими и бумажными деньгами — у нее на родине давно ходили ассигнации, в современной ей России тоже — и легко предположила, что «билеты» могли лежать среди белья.
Вторая странность — поведение родственников Дашковой. Сестра Елизавета послала княгине полотно, затем рубашки, но не деньги, хотя именно финансовая помощь требовалась в первую очередь. Екатерине Романовне пришлось занимать на стороне, увеличивая долги мужа. Хотя дядя и отец могли просто дать оставшейся в одиночестве женщине некую сумму, чтобы она с дочерью протянула до возвращения князя. Наконец, следовало написать Михаилу Ивановичу — он направлялся к матери в Москву и мог прислать деньги из имений. Ничего этого не произошло.
Все вели себя так, словно у Дашковой украли шубу и белье. Что, вероятно, и отвечало истине. Остальное княгиня понемногу перетаскала подруге. Практически все крупные участники заговора раскошелились. Под предлогом недавнего ограбления княгине проще было занимать у знакомых, вопрос: на что? — отпадал.
Пунктирный след этих событий сохранился в письмах Екатерины, хотя осторожная императрица нигде не произнесла слова «деньги». «Не надеюсь расплатиться с Вами вполне за Вашу постоянную и истинную преданность»{142}. Разговор в карете на дороге из Петергофа 29 июня, на следующий же день после переворота, затрагивал именно вопрос платы за преданность. «Просите у меня, чего хотите; я не буду покойна, если вы мне тут же не укажете, что я могу сделать». Екатерина желала «облегчить себя от чувства признательности»{143}.
Вскоре она отдала долг. 9 августа в «Санкт-Петербургских ведомостях» был опубликован список лиц, пожалованных за участие в перевороте. Дашковой причиталось 24 тысячи рублей{144}, однако в черновике цифра была иной — 12 тысяч{145}. К началу августа отношения подруг уже были напряжены: в порыве раздражения императрица, вероятно, обозначила ту сумму, которую взяла у княгини. Характерно поведение нашей героини: она оплатила этими деньгами долги мужа. Те самые, которые увеличила, занимая после кражи.
Кредит
Если бы для переворота было достаточно двенадцати тысяч, подругам удалось бы избежать первых недоразумений. Но требовалось гораздо больше. Очень рачительная, когда дело касалось обыденной жизни — домов, имений, векселей, — Дашкова впадала в словесную высокопарность, едва речь заходила о свершениях на благо отечества. Эту черту подметил Дени Дидро: «Если дело само по себе великое, она терпеть не может, чтоб унижали его какими-нибудь мелкими политическими расчетами»{146}.
А для Екатерины II скрупулезный расчет лежал в основе любого предприятия. К моменту переворота большинство служащих Петра III уже полгода не получали жалованья{147}, в этих условиях «материнские благословения» императрицы, передаваемые гвардейцам вожаками заговора, дорогого стоили.
У французских авторов, писавших по горячим следам о «петербургской революции», мелькают сообщения, будто государыня «раздала золото, деньги и драгоценности, которыми обладала»{148}. Прусский посланник Гольц в конце августа 1762 года доносил Фридриху II, что «Панин давно уже снабжал императрицу суммами, которые были употреблены на подготовление великого события»{149}, то есть переворота. Кроме того, Екатерине удалось устроить Орлова на должность цалмейстера (казначея) при генерал-фельдцехмейстере (командующем артиллерией). Так что деньги в артиллерийской кассе тоже не задерживались.