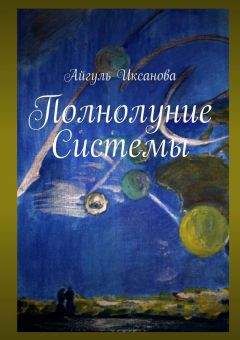Тамара Солоневич - Записки советской переводчицы
— Кто был ваш отец?
— Офицер.
— А, офицер? Да, верно, у вас так и во всех анкетах стоит. Но только не скажите ли вы нам, какую должность он занимал.
Легкая заминка. Потом:
— Он был генералом.
— Генералом? Так, так. Но это все-таки не должность. А не был ли он генерал-губернатором в Варшаве?
— Да, был.
Ответ звучит тихо и безнадежно.
— И вы все эти годы скрывали, что ваш отец занимал такую должность, расстреливал рабочих и крестьян. Вы даже имели наглость работать переводчицей при иностранных делегациях и теперь надеетесь, что вам удастся и дальше нас обманывать. Товарищи рабочие, вы видите, как классовый враг ничем не гнушается, чтобы влезть к нам в доверие. Вы видите, какие гады проползают в нашу среду и, притворяясь одним из наших, продают дело рабочего класса. Предлагаю исключить гражданку Игельстром из профсоюза, уволить с занимаемой ею должности и запретить ей когда-либо работать в учреждениях, имеющих дело с иностранцами.
Бледная и беспомощная стоит Софья Петровна. И ни один из коммунистов, которые с ней работали, которые ей доверяли, которые знают, действительно знают, как она предана советской власти, не осмеливается сказать за нее хотя бы одно слово. Это то, что мой муж называет в своей книге «чортовыми черепками». Так платит классовое правосудие своим друзьям.
***
Последний раз я видела Софью Петровну перед своим отъездом за границу в августе 1932 года. Муж ее, Игельстром, бывший гвардейский офицер, а при советской власти переводчик с английского языка в Профинтерне, долго терпел mеnage-a-trois[12], но как то пришел со службы и сказал:
— Сонечка, ты ничего не имеешь против того если я женюсь на Волковой.
— Что ты, Витя, конечно, пожалуйста.
Так кончился их брак. Он не был ни счастливым, ни несчастным, но был, во всяком случае, несколько странным. После развода они остались друзьями, и она часто бывала у молодоженов.
Кажется, в 1922-23 годах Игельстром занимал какую-то должность в советском полпредстве в Риме. Тогда Софья Петровна посетила Капри, и у нее на всю жизнь сохранилось яркое воспоминание об Италии и о Капри. Она написала роман из того отреза своей жизни. Понесла в издательства. Его нашли очень красивым и солнечным, но слишком эротичным и мало советским. Эротика в СССР не в фаворе. Я много бы дала, чтобы иметь этот роман здесь, за-границей. Он был написан прекрасно.
В тот августовский вечер 1932 года, когда я зашла к ней попрощаться, Софья Петровна была настроена несколько меланхолически. Она сообщила мне, что работает экономистом в каком то промышленном предприятии. С тех пор, как вычистили, ей не позволили больше работать с иностранцами.
— А где Ибаньес?
— Он собирается уезжать в Испанию. Тамарочка, дорогая, не можешь ли ты (она сама предложила мне перейти на «ты», тогда еще в Ростове 1926 году), когда приедешь в Берлин, пойти к испанскому послу и попросить его о паспорте для Иезуса. Ведь здесь все еще нет официального представителя Испании.
Судьба Ибаньеса довольно красочна. Из очень бедной кастильской семьи, он провел свое детство, бродя с отцом и обезьяной по испанским селам. Потом он перепробовал несколько профессий, потом стал коммунистом, проявил недюжинные ораторские способности и был первым секретарем центрального комитета коммунистической партии Испании. В качестве такового, приехал в Москву на конгресс Коминтерна. Босяк и хулиган по характеру, маленький, коренастый, некрасивый, он имел, однако, большой успех у женщин. В Коминтерне он не смог понять всех махинаций международной банды, которая стоит во главе международного коммунистического движения, стал доискиваться и допытываться, стал протестовать. Кончилось это плохо. Очень плохо. Ему просто не вернули его паспорта, который всякий правоверный коммунист должен сдавать в коминтерновской комендатуре. И он застрял в Москве ни больше и не меньше, как на восемь лет. С Испанией, как известно, сношений у СССР не было, протестовать Ибаньес не мог, так как в Испании его за это время приговорили к нескольким годам тюрьмы за революционную работу и за поездку на конгресс. Так и осталось это дитя Юга в холодной и неуютной, чуждой ему Москве. Его подобрала Софья Петровна, приютила, приблизила, пожалела, окультивировала, научила русскому языку так, что он, в конце концов, зарабатывал деньги переводами с русского на испанский.
Он написал как то роман «Барселонские террористы», Игельстром перевела его на русский язык, книга вышла в свет, но получила отвратительную критику в «Известиях». И вот мой муж встретил Ибаньеса на улице как раз, когда тот шел в «Известия» «немножко резать» критика. Он всегда носил при себе испанский нож — «наваху». Насилу Ивану Лукьяновичу удалось его отговорить от этой безумной попытки.
Софья Петровна Ибаньеса очень сильно любила, И тогда в Ростове, ложась по вечерам в гостиничную кровать, говорила мне мечтательно:
— Ах, Тамара, ты не знаешь, как эти испанцы умеют любить.
А теперь, в последний вечер в Москве, Софья Петровна призналась мне, что Ибаньес стал совершенно невыносимым, что у него оказались в Испании жена и… десять душ детей (оказывается, испанцы вообще очень плодовиты), что он теперь тоскует по Испании и хочет скорее уехать. Что, когда они поссорятся, он хватает подаренный ему каким то мексиканским делегатом граммофон, и кричит:
— Но граммофон то ведь мой!
А кроме того, он невероятно ревнив. Угрожает зарезать Софью Петровну, как барана, если узнает, что за ней кто-нибудь серьезно ухаживает.
На днях к ней должен был прийти какой-то знакомый, который ей очень нравился. Она попросила Ибаньеса на это время уйти. Тот обещал. А сам, в ее отсутствии, залез наверх, на антресоли, спрятался под занавеску и следил за обоими все время. Когда знакомый ушел, Ибаньес спрыгнул сверху и заявил перепуганной Софье Петровне:
— Хорошо, что он тебя не поцеловал, а то, я метнул бы в него наваху.
Словом, он Софье Петровне надоел, и она очень хотела, чтобы он уехал обратно в Испанию.
В 1934 году я узнала от одного француза, что Ибаньесу таки удалось вырваться из СССР и что он теперь играет крупную роль в испанском анархическом движении. Я не завидую его положению: Ларго ли Кабаллеро возьмет верх, или генерал Франко, Ибаньеса все равно, в конечном счете, повесят.
***
У Софьи Петровны был замечательный дар переводчицы. Она записывала речи ей одной понятными сокращениями, потом выходила на трибуну и переводила слово в слово, как бы длинна речь ни была. Когда в 1927 году в Москву приехал генеральный секретарь Великобританской Федерации Горняков, Кук, и говорил в Большом театре ровно два с половиной часа, Софья Петровна перевела его речь так блестяще, так остроумно передала все нюансы его образной речи, что зал встал и минут пятнадцать бешено ему аплодировал.