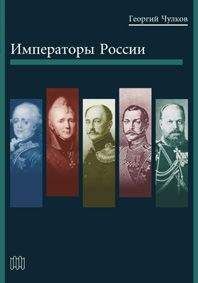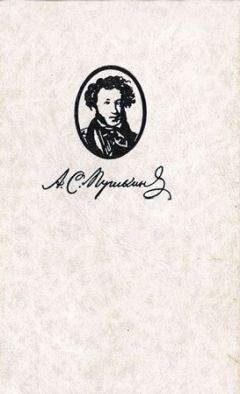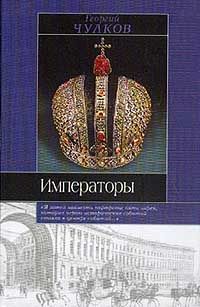Георгий Чулков - Годы странствий
Как раз в эти дни, когда я корректировал мою книгу, получил я известие о самоубийстве милого Мартынова, старика-шлиссельбуржца. Года не прошло, как я обнимал его, прощаясь, при моем отъезде из Якутска — и вот он уже ушел из нашего мира. Как странно, как непонятно было это самоубийство. Несмотря на шлиссельбуржское свое заточение, а потом якутскую ссылку, Мартынов был необычайно молод душою и горел страстным желанием вернуться в Россию и приняться за общественную работу. Он должен был вскоре выехать за пределы Якутской области: кончался срок его ссылки. Но этого не случилось. Обстоятельства, понудившие Мартынова покончить счеты с жизнью, были воистину удивительны.
Старик влюбился в жену одного ссыльного, и эта женщина поселилась с ним, покинув мужа. Колония политических вмешалась в это дело, и самым серьезным образом товарищи обсуждали вопрос, имел ли право Мартынов соблазнять жену политического ссыльного. Всем известна болезненная страсть изгнанников устраивать товарищеские суды по всякому поводу, иногда без достаточных оснований.
В эмиграции и ссылке люди всегда немного сходят с ума. Сумасшедший суд над Мартыновым довел несчастного до отчаяния и гибели. Вероятно, в иные годы, менее фантастичные, не было бы никакого суда, и за свое прелюбодеяние старик ответил бы лишь «на страшном суде», а не здесь, на грешной и страстной нашей земле. [Я не ручаюсь, что был «суд» с соблюдением обычных формальностей, но что роман Мартынова стал предметом споров и детальных обсуждений, это достоверно.]
Хотя моя жизнь в Нижнем Новгороде в условиях гласного надзора не представляла ничего особенно тяжелого, я все-таки временами роптал, завидуя тем писателям, которые свободно жили в столицах. К тому же моя жена решила кончить курсы и уехала в Москву держать экзамены. Однажды весною я так вознегодовал на обстоятельства, разлучившие меня с женою, что, недолго думая, решил бросить вызов судьбе и без всякого разрешения немедленно ехать в Москву.
Мост был разведен. Каждый день ждали ледохода. Река набухла. Трещал лед. Сообщение с московским вокзалом было прервано. Но это меня не остановило.
Захватив небольшой сак, я вышел из дому и направился к реке. За мною шел сыщик. Когда я вышел на Похвалинский съезд, шпик встретил товарища и, по-видимому, предложил ему следовать за мной. Теперь, оглядываясь, я видел, как двое идут за мною по пятам.
Подойдя к берегу, я неожиданно наткнулся на пикет речной полиции.
Рыжеусый стражник, заметив, что я смотрю на реку, сказал строго:
— Нельзя, нельзя… Хода нет…
— Мне самому жизнь дорога, — засмеялся я, подходя ко льду. — Я только посмотреть…
Постояв так минуты две, я оглянулся. Сыщики разговаривали со стражником, уверенные, должно быть, что я не пойду по тонкому и хрупкому льду, изборожденному черными трещинами. Но мною овладел какой-то веселый азарт, и я бросился бежать.[138]
Не успел я пробежать и пяти саженей, как позади меня затрещал лед и зашумела вода. С берега кричали растерявшиеся стражники и сыщики, а я бежал зигзагами, мимо черных дыр и прорубей, по хрустевшему под ногами льду. Утром я был в Москве и два дня мешал жене готовиться к экзаменам.
В моем деле, хранящемся теперь в Архиве Революции, перечисляются места, которые я посещал в Москве во время моего нелегального там пребывания. Охранное отделение отмечает, что я приезжал из Нижнего с целью агитации. Но я, по правде сказать, на сей раз, кажется, мало занимался революционными делами.
«Новый путь»
Все ходатайства моего отца о разрешении мне жить в Москве оказались тщетными. Вел. Кн. Сергей Александрович[139] упорно отказывал старику в его просьбах. Вскоре отец мой умер. С его кончиною порвана была моя последняя связь с прочным бытом, с семейной традицией, с уютом и тишиною.
В Петербурге в то время жила моя тетка, С. А. Москалева, вдова, бывшая тогда начальницей Высших женских курсов. У этой моей сановной тетки, ныне умершей, были связи в правительственных кругах. И вот она, хотя у меня с нею никогда не было и не могло быть по многим причинам близких отношений, принялась энергично за меня хлопотать «ради памяти покойной Шуры», т. е. ее сестры, моей матери. Хлопоты увенчались успехом, и мне было разрешено поселиться в Петербурге.
Я родился и вырос в Москве. В Петербурге у меня не было ни одного знакомого. Когда мы с женой приехали в столицу и наняли небольшую комнату на Литейном проспекте, в кармане у меня было рублей сорок. Никаких источников для материальной поддержки у меня не было. Когда-то, будучи еще гимназистом, а потом студентом первого курса, я зарабатывал деньги, сотрудничая в «Детском отдыхе», коего редактором был H. A. Попов,[140] впоследствии небезызвестный театральный деятель. Я возлагал все мои надежды на этот петербургский журнал и отправился в редакцию, уверенный, что меня примут там с распростертыми объятиями. Но — увы! — H. A. Попов, как оказалось, покинул журнал, передав его своей супруге, которая встретила меня, хотя и вежливо, но сухо, и я понял, что рассчитывать на «Детский отдых» как на источник дохода было легкомысленно.
Я вышел из редакции подавленный и смущенный. Мне не хотелось идти домой и огорчать жену печальной вестью о неудаче. Я стал бродить по городу, размышляя о своей судьбе. Петербург, который впоследствии очаровал и пленил меня, казался мне в те дни скучным и неприветливым. Был сезон стройки и ремонта. Леса вокруг домов; перегороженные тротуары; кровельщики на крышах; известка; маляры, висящие в ящиках, подвешенных на канатах; развороченные мостовые — все это было буднично, уныло и внушало человеку чувство его собственной ненужности.
Очутившись на Васильевском острове, я зашел в немецкую пивную и спросил себе кружку пива.
«Что делать? И за какую литературную работу приняться? — думал я. — Стихи вообще никому не нужны, а я к тому же символист. Не понесу же я мои поэтические опыты в „Русское богатство“. Как же быть? В Петербурге, правда, есть „Новый путь“,[141] где печатают символистов, но там в политическом отделе такая неразбериха, что ничего понять нельзя, а ведь мне, революционеру, не полагается печататься в сомнительных органах».
Мой неостывший революционный пыл, моя молодость и две кружки пива подбодрили меня, и я вышел от немца с неопределенными надеждами на будущее.
Постукивая тростью, я зашагал к Неве. На Дворцовом мосту я уже уверял себя, что мои дела так или иначе должны поправиться. Рассчитывать на то, что «Новый путь» изменит свою политическую программу или что «Русское богатство» будет печатать декадентские стихи, конечно, было бы безрассудно, но я не склонен был унывать и на что-то надеялся.