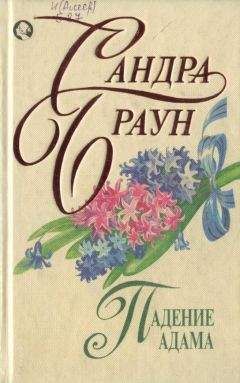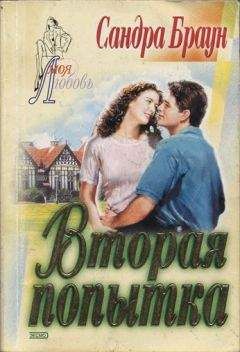Михаэль Деген - Не все были убийцами (История одного Берлинского детства)
В садовых домиках общества огородников не было ни души. Стояла необычно холодная для начала декабря погода, и мы страшно мерзли.
В домике была старая печь с металлическими конфорками, которую мы без особого успеха пытались топить. К тому же по вечерам нам нельзя было зажигать свет — его тотчас бы заметили. По ночам было так холодно, что у нас сводило губы. К счастью, у нас были старые пуховые перины. Мы укрывались ими, не снимая верхней одежды. В верхней одежде и под перинами было более или менее терпимо. Лона навещала нас каждые три дня. Она приходила ранним утром и приносила нам, как она выражалась, что-нибудь пожевать. Она тоже попыталась справиться с нашей печкой. Домик сразу наполнился удушливым чадом. Мы начали кашлять и кашляли долго, до боли в легких. Однако разжечь огонь в печке Лоне удалось. Через пару часов чад вытянуло, мы снова закрыли окно, и в домике стало тепло. Торжествующе усмехнувшись, Лона посмотрела на свои руки: «Это настоящие рабочие руки», — сказала она. — «Очень пригодились в такое тяжелое время».
«Мои руки работали гораздо больше твоих. Ты себе и представить не можешь», — с усмешкой ответила мать.
«Так почему же ты не смогла справиться с этой печкой? Или твои еврейские руки слишком хороши для такой работы?»
Обе с вызовом смотрели друг на друга. Наконец мать отвела глаза и обернулась ко мне. И вдруг Лона беззвучно заплакала.
«Я ведь тоже не железная», — жалобным голосом сказала она. — «Я сама не знаю, что говорю. Не могу совладать со своими нервами, и все тут! И все время у меня перед глазами Якоб, там, в больнице на Иранишенштрассе. Я всякий раз удивлялась, что умирающий может так разумно говорить. Помнишь, голова у него стала маленькой, как у ребенка! С тех пор не могу избавиться от страха. Я боюсь эсэсовцев, этих кровавых псов!»
Она подошла к матери, которая все еще смотрела в мою сторону, и обняла ее. «Не принимай это так близко к сердцу, Роза. Я ведь не хотела обидеть тебя, хотела только напомнить, что я из рабочей семьи. А у евреев предубеждение против пролетариев. Это меня раздражает. Но ты же знаешь — я не антисемитка. И никогда ею не была».
Все еще обнимая мать, Лона усадила ее на стул.
«Все вы в той или иной степени антисемиты. Только в некоторых антисемитизм запрятан очень глубоко. А чуть что, он сразу вылезает наружу».
Мать продолжала смотреть на меня.
«Я тут ради вас на части рвусь, всякий раз помираю от страха — а вдруг эсэсовцы что-то пронюхали и теперь возьмут меня в оборот, а ты упрекаешь меня в антисемитизме».
«Я не упрекаю тебя в антисемитизме. Я только сказала, что каждый из вас хоть чуть-чуть, да антисемит. Скрытый антисемит. Иначе зачем было тебе упоминать о моих еврейских руках?»
«А разве я не упомянула о моих пролетарских руках?» Лона вскинула свои руки вверх, и обе затряслись от смеха. Они хохотали громко, заливисто, по-девчоночьи. Казалось, сейчас они выбегут из домика и начнут играть в салки. «Какую чушь они только что несли!» — подумал я, глядя на них.
Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, таким заброшенным, как в тот момент. Мне еще не было тринадцати лет, но я, как мне казалось тогда, был уже совершенно никому не нужен. Матери без меня было бы гораздо проще.
Да и Лоне, наверное, прятать одну мать было бы во много раз легче, чем нас двоих. Да так ли уж на самом деле хочу я дожить до конца войны? Что будет с нами, если наци все-таки выиграют эту войну? Если у них в руках вдруг окажется какое-нибудь чудо-оружие? Стоит ли в таком случае цепляться за жизнь? И вообще — сколько еще времени нужно прятаться? Прятаться в этом холоде, с этими глупыми женщинами?
Я тосковал по теплой постели Розы Тойбер, по ее грубоватому берлинскому говору. Я тосковал по дому, — своему, настоящему дому с кирпичными стенами, деревянными полами и закрывающимися дверьми.
Стоя у окна садового домика, я глядел на безотрадный пейзаж, на серое декабрьское небо. Я не понимал тогда, какое это счастье — вот так стоять и смотреть на унылый пейзаж за окном, на затянутое облаками небо. Я заплакал.
Обе женщины бросились ко мне, наперебой стараясь обнять, утешить. «Да, конечно, мы не сдержались, это наша вина. Но таких стычек никогда больше не будет», — уверяли они меня.
Я принимал ласку матери, выслушивал ее обещания, но мировая скорбь все больше овладевала мною. Целые дни я молчал, не произнося ни слова. Молчал даже тогда, когда мать пыталась вызвать меня на разговор. На все вопросы я или кивал в знак согласия, или качал головой. Молча.
Я видел, как страдает мать от моего молчания, как с трудом подавляет в себе желание сорваться, закричать на меня. Это ей почти всегда удавалось. Но я упрямо молчал. Думаю, мне даже доставляло удовольствие мучить ее.
Теперь Лона все чаще присылала к нам своего мужа, Фуркерта. Он приносил нам продукты, теплое белье, а однажды даже принес для матери новую, с иголочки, военную шинель. «Это наверняка краденое», — сказала мать, когда Фуркерт ушел. Она брезгливо подняла шинель двумя пальцами.
«Мы должны отдать это Лоне обратно. Вещь, конечно, теплая, но оставлять ее нам нельзя».
Я удивленно уставился на мать.
«Думаю, отдавать шинель обратно не нужно. Фуркерт может обидеться, и кто знает, как он себя тогда поведет».
Фуркерт приходил к нам все чаще, даже тогда, когда Лона не просила его об этом. Очевидно, моя мать нравилась ему. Иногда он приносил целые чемоданы с какой-то дешевой одеждой.
«Теперь ты можешь открыть здесь трикотажный магазин», — ухмыляясь, говорил он матери.
Его подарки пугали нас. И вдруг он пропал. Может, Лона запретила ему приходить к нам? А может, он опять попал в тюрьму? В нашем садовом домике снова стало скучно. Чемоданы с одеждой Лона унесла, дав понять, что ее муж украл эти вещи. Запасы топлива были у нас на исходе. В кладовке становилось все меньше угольных брикетов и дров. Мать сказала об этом Лоне, и та обещала, что хозяйка домика опять завезет нам топливо. Однако ничего нам так и не завезли. Топливо приходилось экономить. Мать проявляла чудеса изобретательности, стараясь сохранить в домике тепло.
Именно в это время мне пришла в голову мысль убежать. Я не хотел быть обузой (так мне казалось) для матери, но и она тоже не должна были стеснять меня. У меня был план. Я хотел обойти все еще оставшиеся в Берлине консульства. Но сначала нужно будет разузнать, нет ли там немецких представителей. Самое безопасное, думал я, обратиться к шведам. Швеция — нейтральная страна, участия в войне она не принимает, и там, кажется, почти нет антисемитов. «Почему?» — спросил однажды мой отец и сам на этот вопрос ответил: