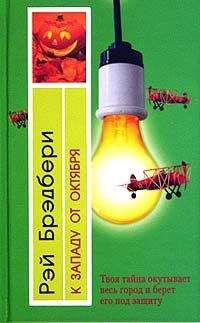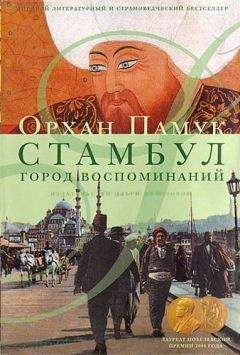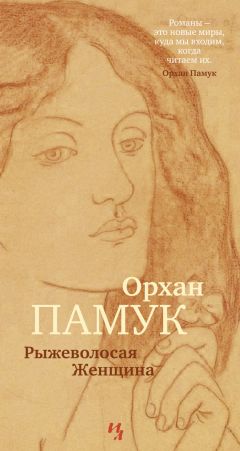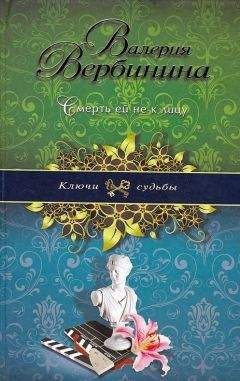Орхан Памук - Биография Стамбула
Бывало, мама с утра садилась к телефону и начинала подолгу разговаривать со своими сестрами, подругами и другой нашей бабушкой — тогда я чувствовал, что дела обстоят совсем плохо. Мама разговаривала по телефону, сидя на стуле и закинув ногу на ногу, а я смотрел на очень занимавшие меня разнообразные складки ее кремово-красного халата, разрисованного гвоздиками, сквозь пуговицы которого проглядывали красивая ночная рубашка и красивая мамина шея, и мне хотелось залезть к ней на колени, прижаться к ее волосам, шее, груди. Несколько лет спустя, после ожесточенной перепалки с отцом, случившейся за обедом, мама гневно бросила мне в лицо, что я получаю удовольствие от той атмосферы бедствия, в которую погружали весь дом их ссоры.
Ожидая, пока мама обратит на меня внимание, я сидел за ее туалетным столиком, заставленным пудреницами, румянами, флакончиками с духами и лаком для ногтей, пузырьками с одеколоном, розовой водой и миндальным маслом, с интересом рылся в шкатулках, играл со всевозможными щипчиками, ножницами, пилочками для ногтей, щеточками в форме ручек, карандашами для бровей, расческами и всякими разными острыми инструментами, разглядывал мои и брата младенческие фотографии, лежащие под стеклом. На одной из фотографий я сидел на детском стульчике, а мама подносила к моему рту ложку, и при этом на наших лицах были такие радостные улыбки, какие можно увидеть только в рекламе детского питания. Я смотрел на фотографии и раздумывал: как жаль, что они не могут передать моих радостных воплей.
Потом, чтобы спастись от медленно наползающей на меня скуки и грусти, я начинал играть в одну игру, не подозревая о том, что много позже буду делать нечто подобное в своих романах. Я сдвигал на середину столика два флакона, стоявшие рядом с зеркалом, щетки для волос и запертую, никогда не открывавшуюся, расписанную цветами коробочку, приближал голову к середине трюмо и, разом раскрыв обе его створки так, что моя голова оказывалась между ними, смотрел на движения тысячи Орханов в глубокой и холодной стеклянной бесконечности. Глядя на самые близкие и самые большие отражения, я с удивлением рассматривал свой затылок, который, оказывается, формой походил на острый конец яйца, и уши, одно из которых, совсем как у папы, было странным образом больше другого. Всего интереснее было смотреть на затылок: его вид вселял в меня жутковатую мысль (до сих пор жутковатую) о том, что всю жизнь я таскаю с собой какого-то чужака — мое тело. В трех зеркалах отражался не только мой профиль; мне очень нравилось самодовольно смотреть, как все эти десятки и сотни Орханов, отраженные каждый немножко по-разному и поэтому отличающиеся друг от друга, все, от больших до самых маленьких, рабски повторяют любое движение моей руки. Я заставлял их совершать самые разнообразные движения, пока не убеждался, что все они — беспрекословно подчиняющиеся мне рабы. Иногда я пытался разглядеть в зеленоватой бесконечности самого далекого Орхана; иногда мне казалось, будто я замечаю, что отражения руки или головы движутся не одновременно со мной, а на долю секунды позже. И совсем жутко мне становилось, если я слишком увлекался, надувая щеки, хмуря брови, высовывая язык и строя разнообразные рожи или же разглядывая восьмерку Орханов, притаившуюся в одном из углов зеркала, и забывал про свои руки и пальцы, а те вдруг сами по себе совершали какое-нибудь простое движение. Заметив, как десяток-другой плавающих в зеленоватых глубинах зеркального моря Орханов вдруг повторяют мой неосознанный жест, я на какой-то миг воображал, что они сговорилась между собой двигаться отныне сами по себе. Сначала меня пробирал озноб, а затем, когда не понимающая шуток часть моего рассудка соглашалась с тем, что это мне только показалось, я продолжал игру, чтобы снова испытать тот же ужас. Потом я немного двигал створки, чуть-чуть изменяя их угол, и построение зеркальных Орханов становилось совсем другим. На какое-то мгновение я терял из вида первое и самое близкое отражение, словно смотрел в видоискатель фотоаппарата, который вдруг потерял фокус, и мне нравилось находить его на новом месте, а заодно и ощущать на прежнем месте себя, как будто я тоже мог куда-то потеряться.
Во время всей этой игры в исчезновение (я мог предаваться ей часами) часть моего сознания оставалась начеку: не промелькнет ли в мамином разговоре информация о том, куда делся папа, когда он может вернуться, и не может ли получиться так, что мама однажды тоже пропадет.
Мама ведь тоже иногда исчезала. Однако, когда исчезала она, нам всегда давали какое-нибудь объяснение. Например, говорили: «Мама заболела, отдыхает у тети Нериман». Помню, что я находил эти объяснения разумными, так же как, пусть на какое-то мгновение, по доброй воле верил в истинность зеркальных иллюзий. В сопровождении бабушкиного повара или швейцара Исмаила-эфенди мы на пароходе или автобусе отправлялись навестить маму на другой конец города, например, в Эренкёй или Истинье, где жили наши родственники. В памяти у меня сохранилась не столько печаль этих путешествий, сколько ощущение приключения. Рядом был старший брат, и я подсознательно был уверен в том, что в случае опасности первым с ней будет иметь дело именно он. Когда мы добирались до нужного дома, нас встречали родственники с материнской стороны — пожилые добрые тетушки и немного пугавшие меня волосатостью своих рук дядюшки. Первым делом приласкав нас, они показывали нам все, что могло бы нас заинтересовать в их доме: заливающуюся колокольчиком канарейку, немецкий барометр, который, я думаю, был у каждой европеизированной стамбульской семьи (он представлял собой фигурки наряженных в баварские крестьянские костюмы мужчины и женщины, в зависимости от погоды выходившие из своего домика или скрывавшиеся в нем), и часы с кукушкой, которая своей решительностью и пунктуальностью каждые полчаса повергала в растерянность канарейку, пытавшуюся по мере сил дать достойный ответ; и, наконец, нас вели в мамину комнату.
Красота виднеющегося за распахнутым окном моря, света и простора повергала меня в изумление (может быть, поэтому я так люблю картины Матисса с южными пейзажами за окном); потом я расстраивался и пугался оттого, что встретил маму в таком красивом и чужом месте, но успокаивался, почувствовав наполняющий комнату ни с чем не сравнимый «мамин запах», исходящий от ее вещей, лежащих на треножниках — щипчиков, флакончиков с духами, щетки для волос с облупившейся полировкой. Очень хорошо помню, как мама по очереди брала нас с братом на руки и нежно ласкала. Брату она давала множество наставлений (она всегда очень любила давать наставления) о том, что ему нужно сделать, что сказать, куда пойти, как себя вести, какую вещь принести ей в следующий раз и из какого шкафа ее достать. Я, не прислушиваясь к этим разговорам, смотрел в окно; когда же доходила очередь до меня, мама начинала со мной шутить и пересмеиваться.