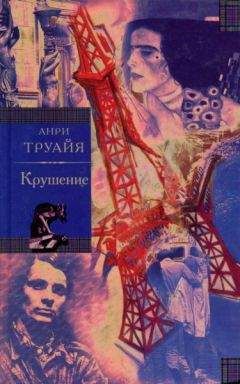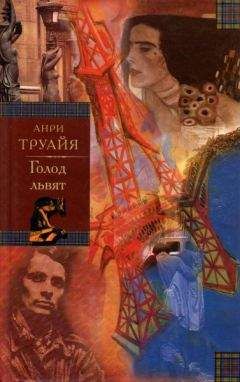Анри Труайя - Максим Горький
В своем презрении к мещанству Горький на этот раз, не колеблясь, клеймил и болтунов интеллигентов: что делают они для своей страны, которой обходятся так недешево?
Пригвождая таким образом думающую элиту, Горький несколько отдалялся от социал-революционеров, для которых интеллигент, вовсе не вредный для общества фразер, был главным действующим лицом в процессе пробуждения масс, и сблизился с социал-демократами марксистского уклона, которые были уверены, что революция станет делом исключительно промышленного пролетариата. Самоучка, он никак не мог излечиться от комплекса неполноценности перед псевдоучеными и всю свою надежду возлагал на рабочих, с которыми чувствовал свое родство до мозга костей. Для него, как и для марксистов той эпохи, освобождение трудящихся должно было произойти благодаря самим трудящимся, а интеллектуалы могут лишь комментировать и аплодировать.
Но не одни только революционеры оценили творчество Горького. Даже буржуазия оказалась чувствительной к его свежему натиску. Обеспеченные и надежно защищенные, они испытывали приятную дрожь новизны перед босяками, проходимцами, анархистами, которых он вводил в их салон. В его книгах и в нем самом стал явно просвечивать снобизм. Даже крупные писатели того времени считали его теперь своим. «Фома Гордеев» был опубликован в 1899 году в петербургской газете «Жизнь». Отдельное издание этой повести было посвящено Чехову. Отношения с ним завязались у Горького со времени выхода из печати его «Очерков и рассказов». Посылая их Чехову, он написал ему: «Собственно говоря – я хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к Вам со времен младых ногтей моих… Сколько дивных минут прожил я над Вашими книгами, сколько раз плакал над ними и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу». (Письмо от 24 октября 1898 года.) В другом письме он заверял его: «Я вообще не знаю, как сказать Вам о моем преклонении перед Вами, не нахожу слов, и – верьте! – я искренен». (Письмо от 6 декабря 1898 года.)
Никогда не встречавшись с Чеховым, Горький преклонялся перед художником, которого видел в нем, – художником, который самыми простыми словами умеет передать состояние души и набросать пейзаж, а еще человеком, который видит отсутствие порыва у большинства своих современников. Ему казалось, что этот художник будничной серости идет в одном направлении с ним. Однако Чехов лишь выделял мелкими штрихами пороки, смешные стороны и тоску декадентского общества, тогда как Горький рвался участвовать в сносе гнилого здания – рвался погрузиться в этот процесс с головой и всеми своими силами.
Переписываясь с Чеховым, Горький надеялся выяснить у него волшебный секрет его мастерства. И Чехов, терпеливо, доброжелательно и откровенно наставлял своего молодого коллегу на расстоянии. Как ранее Короленко, он ставил ему в упрек отсутствии чувства меры, сдержанности, напыщенный язык, пристрастие к малоупотребительным прилагательным. «Особенно эта несдержанность чувствуется, – писал он ему, – в описаниях природы, которыми Вы прерываете диалоги; когда читаешь их, эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, этак в 2–3 строки. Частые упоминания о неге, шепоте, бархатности и проч. придают этим описаниям некоторую риторичность, однообразие – и расхолаживают, почти утомляют. Несдержанность чувствуется и в изображениях женщин и любовных сцен». (Письмо от 3 декабря 1898 года.)
Ничуть не обиженный этой критикой, Горький принимал ее с благодарностью. «Славно Вы написали мне, Антон Павлович, и метко, верно сказано Вами насчет вычурных слов. Никак я не могу изгнать их из своего лексикона, и еще этому мешает моя боязнь быть грубым… Я самоучка». (Написано после 6 декабря 1898 года.) И еще: «Вы сказали, что я умен, – тут я смеялся… Я глуп, как паровоз. С десяти лет я стою на своих ногах, мне некогда было учиться, я все время жрал жизнь и работал, а жизнь нагревала меня ударами своих кулаков». (Письмо от января 1898 года.) И вот еще наивная просьба: «Я очень прошу Вас не забывать обо мне. Будем говорить прямо – мне хочется, чтобы порой Вы указывали мне мои недостатки, дали совет, вообще – отнеслись бы ко мне как к товарищу, которого нужно учить». (Письмо от 23 апреля 1899 года.)
Чехов, прочитав «Фому Гордеева», не набрался мужества, чтобы признаться Горькому в своем разочаровании. Свое истинное мнение об этой книге он поведал в письме Поссе, главному редактору газеты «Жизнь»: «„Фома Гордеев“ написан однотонно, как диссертация. Все действующие лица говорят одинаково; и способ мыслить у них одинаковый. Все говорят не просто, а нарочно, у всех какая-то задняя мысль, что-то недоговаривают, как будто что-то знают; на самом же деле они ничего не знают, а это у них такой façon de parler – говорить и недоговаривать». (Письмо от 29 февраля 1900 года.)
Насколько Чехов любил в сказках и рассказах Горького спонтанность, свободу языка, настолько же его беспокоила новая, дидактическая ориентация автора «Фомы Гордеева». В понимании Чехова беллетрист должен показывать, а не доказывать, и его персонажи должны жить своей жизнью, в мире своих противоречий, а не быть иллюстрациями общей идеи; их история должна волновать, а не убеждать в чем-то. В целом он был против «ангажированности» в литературе и догадывался, что Горького все более и более влечет к тенденциозным произведениям. В понимании Чехова писать – все равно что рисовать; в понимании Горького писать – это доказывать. Конечно же, им представилась возможность скрестить шпаги во время нового путешествия, предпринятого Горьким в марте 1899 года в Ялту, где жил Чехов. С первой встречи между этими двумя людьми установилась симпатия. Чехов оказался чувствителен к грубой искренности, к взрывному идеализму этого писателя, вышедшего из народа. «По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек – и я очень рад». (Письмо к Лидии Авиловой от 23 марта 1899 года.) И еще: «У меня здесь бывает беллетрист М. Горький, и мы говорим о Вас часто. Он простой человек, бродяга, и книги впервые стал читать, будучи уже взрослым, – и точно родился во второй раз, теперь с жадностью читает всё, что печатается, читает без предубеждений, душевно». (Письмо к Розанову от 30 марта 1899 года.)
Что до Горького, то он был сражен скромностью, ясностью ума и мужественной мягкостью этого писателя огромной величины, который обращался с ним, как с равным. «Чехов – человек на редкость, – писал он жене. – Добрый, мягкий, вдумчивый. Публика страшно любит его и надоедает ему… Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним». (К Е. П. Пешковой, письмо от 22 марта 1899 года.) Он, так сильно желавший посвятить себя великому делу, понимал рядом с этим тихим и полным достоинства человеком, таким замкнутым и похожим на провинциального учителя, что можно иметь сердце и не принадлежа ни к какой партии, можно желать улучшения судеб простых людей и не стремясь к рукопашной. Но, восхищаясь чеховской независимостью ума, он не умел идти против собственной натуры, горячной и безудержной как в любви, так и в гневе. Покинув Чехова, он написал ему: «Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел. Как это хорошо, что Вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно быть, жить как Вы – слишком много у меня иных симпатий и антипатий. Я этим огорчен, но не могу помочь себе». (Письмо от 23 апреля 1899 года.)