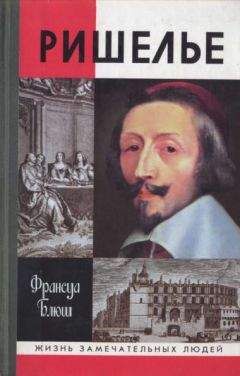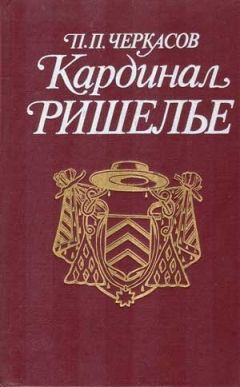Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым
Дирижерами слишком часто бывают грубые и тщеславные тираны. И в молодости мне часто приходилось воевать с ними, отстаивая свою музыку и свое человеческое достоинство.
Некоторые из них пытались стать моими «покровителями». Большое спасибо! От покровительства у меня болит живот. Обычно это была плохо замаскированная попытка навязать мне свое желание, и я был вынужден давать резкий отпор таким покровителям, то есть ставить их на место.
Ответить на чье-то хамство так, чтобы у него раз и навсегда пропало желание хамить, нелегко. Это — искусство. У меня были хорошие учителя. Конечно, самым лучшим был Соллертинский[23], но я попытался учиться также и у других. Мне всегда приятно видеть, что я осадил хама.
Мой приятель, актер, выступал в кабаре под названием «Кривой Джимми» (это было в Москве во время НЭПа). Он вышел на сцену и хотел начать, но не мог. Какой-то толстяк стоял перед первым рядом, переругиваясь с кем-то в зале. Время шло, наконец мой приятель потерял терпение и сказал: «Позволите начинать, товарищ?» — но услышал хамский и излишне фамильярный ответ: «Гусь свинье не товарищ!»
Мой приятель замахал своими руками, как крыльями, и со словами: «В таком случае, я улетаю», — ушел со сцены на цыпочках, как умирающий лебедь из «Лебединого озера».
Вот это — находчивость! Публика так хохотала, что хам пулей вылетел из зала.
Однажды в моем присутствии Соллертинский сбил спесь с чванливой и неприятной женщины. Сама она была никто, но муж ее был в Ленинграде важной шишкой. На банкете в честь оперной премьеры в Малом театре Соллертинский подошел к ней, и, желая сделать ей комплимент, сказал в своей обычной восторженной, сбивчивой манере: «Как замечательно вы выглядите, вы сегодня абсолютно восхитительны!»
Он только собирался развить свой дифирамб, как дама прервала его: «К сожалению, я не могу сказать того же о вас». (Она имела в виду как лицо Соллертинского, так и его довольно экстравагантную манеру одеваться.)
Но при Соллертинском было его остроумие, и он ответил: «Почему бы вам не поступить так же, как я? Солгите».
Хамить, как правило, легко; быть остроумным значительно сложнее. Надеюсь, различие между этими двумя проявлениями характера ясно. Самое сложное, тем не менее, говорить правду, не будучи ни грубым, ни остроумным. Умение высказываться таким образом приходит только с годами опыта.
Но здесь есть другая опасность — ты начинаешь выражаться иносказательно. Начинаешь лгать.
В последние несколько лет люди совершенно перестали мне хамить. Это хорошо, и это плохо. Наверно, очевидно, почему это хорошо, а плохо это по двум причинам.
Прежде всего, люди, кажется, «защищают» меня. Они, должно быть, бояться, что я развалюсь от хамского замечания и меня не смогут склеить даже в «Кремлевке». Меня жалеют.
Но важнее всего — вот что: отсутствие хамства сегодня, конечно, не означает, что тебе не нахамят завтра или послезавтра с еще большим удовольствие. Поскольку хамство как таковое живет и процветает, и в любой момент может произойти буквально что угодно.
А ты уже не тот, что прежде, ты размяк. Ты привык, что к тебе прислушиваются, и потерял иммунитет. И тогда тебя, беззащитного горемыку, растопчут, смешают с грязью.
Сейчас, когда ко мне обращаются, я стараюсь во избежание хамства сохранять сдержанность. Это вызывает у меня, человека, петербургского духа, желание смягчать свои оценки. И я тут же вспоминаю Глазунова.
Вот — человек, который слушал намного больше музыки, чем ему было нужно. О себе я не могу сказать ничто подобного. У Глазунова всегда была наготове рецензия, причем, не слишком серьезная. С какой же стати мне поступать иначе?
Плутарх был великим человеком, его «Сравнительные жизнеописания» — изумительная вещь. И теперь моя собственная жизнь видится мне точнее и привлекательней через различные виды параллелей. В этой приятной компании нас — как сельдей в бочке. Много чести, но мало толку.
Глазунов осознанно сдерживал себя или его действительно было трудно спровоцировать? Мне известно всего несколько случаев, когда Глазунов так рассердился, что все это заметили. Один раз это было связано со мной, другой — с Прокофьевым.
Случай с Прокофьевым случился, когда я был совсем маленьким, но об этом говорили и позже, и история стала казаться полной предзнаменований и почти символической, хотя, насколько я понимаю, ничто особенно символического не произошло. Глазунов просто поднялся и покинул зал во время исполнения Прокофьевской «Скифской сюиты».
Известно, что Глазунов терпеть не мог музыку Прокофьева. Но я готов поспорить, что в тот раз не было никакой преднамеренной демонстрации. Ведь Глазунов слушал сотни и сотни сочинений, не покидая своего кресла и не позволяя никаким чувствам отразиться на его бесстрастном лице, это было ему попросту несвойственно. Как же тогда это объяснить?
Очень просто: «Скифская сюита» была для Глазунова слишком громкой, и он испугался за свой слуховой аппарат. Оркестр перестарался. После премьеры ударник показал Прокофьеву разорванную кожу на литаврах.
И — еще один аспект, причем очень важный. Глазунов никогда не покинул бы концертный зал во время исполнения — даже если бы его жизнь была в опасности — если бы не был уверен, что это ничуть не расстроит композитора. И, несомненно, Глазунов был прав.
Прокофьев, как известно, легко пережил свой неуспех в глазах Глазунова. Он даже включил этот случай в список, так сказать, своих достижений. В этот смысле наши реакции на мнения наших консерваторских наставников радикально отличаются.
Однажды Прокофьев показывал свое задание по оркестровке Римскому-Корсакову. Это обычно делалось перед всем классом. Римский-Корсаков нашел много ошибок в работе Прокофьева и осерчал. Прокофьев торжествующе повернулся к классу: смотрите, мол, старик обезумел. Он считал, что это каким-то образом повышает его авторитет. Но, как он потом рассказывал, лица его друзей оставались серьезными; в данном случае он не встретил поддержки. И, между прочим, он так толком и не выучился оркестровке.
Прокофьев противопоставил себя консерватории почти с самого начала. Ему было тринадцать лет, когда он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Мне тоже было тринадцать, но я поступил в Петроградскую консерваторию, которая уже была не та, что прежде. Но, вообще, это — вопрос дисциплины и характера и устремленности в прошлое или будущее.
Отчасти это объясняет, почему Глазунов вышел из себя во второй раз. Это имело отношение ко мне, но он не нападал на меня, а защищал.
Надеюсь, что меня поймут. Я не хвастаю; напротив, эта история представляет меня в довольно комическом свете, а Глазунова — как исключительно порядочного человека, в отличие от истории с Прокофьевым, из которой именно Прокофьев вышел с честью, а Глазунов выглядел глуповато.