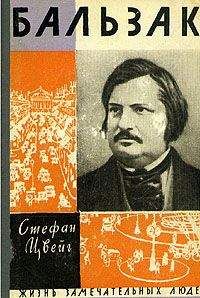Стефан Цвейг - Борьба с демоном
Так желанная встреча с великими становится для него роковой и опасной. Год свободы в Веймаре прошел почти бесплодно, хотя он и надеялся завершить начатые вещи. Философия — это «убежище для неудачных поэтов» — не дала ему ничего, поэты его не воодушевили: наброском остается «Гиперион», драма не окончена, и, несмотря на крайнюю экономию, средства его истощены. Первая битва за право жить, как должен жить поэт, как будто проиграна, ибо Гёльдерлин должен снова сесть на шею матери и с каждым куском хлеба проглатывать немой упрек. Но в действительности он именно в Веймаре победил самую большую опасность: он не отступил от «неделимости вдохновения», не дал себя обуздать и умерить, как хотели его доброжелатели. Его гений утвердился в своей глубочайшей стихии, и, наперекор всякому благоразумию, демон одарил его инстинктом, глухим ко всяким урокам. На попытки Шиллера и Гёте низвести его к идиллии, к буколике, к умеренности он отвечает еще более бурным взрывом. Увещания Гёте к поэзии в образе Эвфориона —
Но ввысь не надо
Без меры влечься!
Смотри, не падай,
Не изувечься…
Сдерживай, сглаживай
Буйную силу,
Или нас заживо
Вгонишь в могилу.
Черпай свободу
Здесь, на лугу, —
этот призыв к поэтическому квиетизму, к идилличности, Гёльдерлин встречает страстной отповедью:
К чему смирять меня, когда сгорает
Моя душа в цепях железных дней,
Лишать меня, кого борьба спасает,
Рабы, стихии пламенной моей?
Вдохновение, «пламенную стихию», в которой душа Гёльдерлина живет, как саламандра в огне, он вынес незапятнанной из искушения классической холодностью, — упоенный судьбой, он, «кого борьба спасает», вновь окунается в жизнь, ибо
Будет в горне таком
И все, что чисто, коваться.
То, что должно было его погубить, сперва закаляет его, и то, что его закалило, приносит ему гибель.
ДИОТИМА
Тех, кто слабее, похищают Парки.
Мадам де Сталь[61] записывает в свой дневник: «Франкфурт — очень красивый город; там отлично едят, все говорят по–французски и носят фамилию Гонтар».
В одно из этих семейств Гонтар потерпевший крушение поэт приглашен домашним учителем к восьмилетнему мальчику; здесь, как и в Вальтерсгаузене, на первых порах все кажутся его мечтательному, легко воспламеняющемуся взору «очень хорошими и редкими людьми»; он чувствует себя прекрасно, хотя значительная доля его прежней пылкости уже утрачена. «Я и так похож на цветок, — элегически пишет он Нейферу, — который однажды вместе с вазоном упал на улицу; вдребезги разбился вазон, ветки сломаны, корни поранены, и теперь, с трудом посаженный в свежую землю, он тщательным уходом едва спасен от увядания». Он сам знает о своей «хрупкости» — самая глубокая его суть может дышать только в идеальной поэтической атмосфере, в воображаемой Элладе. Никогда те или иные обстоятельства действительности, тот или иной дом — ни Вальтерсгаузен, ни Франкфурт, ни Гауптвюль — не были к нему особенно суровы, но это была действительность, а всякая действительность была для него трагична. «The world is too brutal for me»[62], — говорит однажды его брат Китс. Эти нежные души могли выносить лишь поэтическое существование.
И вот его поэтическое чувство непреодолимо стремится в этом кругу к одному–единственному образу, который он, несмотря на всю близость, ощущал в своих идеальных грезах, как вестницу «иного мира»: это была мать его воспитанника, Сюзанна Гонтар, его Диотима. Действительно, облик этой немки, знакомый нам благодаря мраморному бюсту, сияет греческой чистотой линий; такою она представляется с первого мгновения и Гёльдерлину. «Гречанка, не правда ли?» — восторженно шепчет он Гегелю, посетившему его в ее доме: она вышла, грезит он, из его собственного неземного мира и, как он, пребывает чуждой среди черствых людей в горестной тоске по родине:
Ты терпишь молча, ибо понять тебя
Они не могут. Молча, потупившись,
В прекрасный день, увы! напрасно
Ищешь ты близких в свете солнца…
Нежно–высоких душ не найти нигде.
Вестницей, сестрой, заблудившейся душой из другого, из его мира — такой представляется Гёльдерлину, святому мечтателю, жена его хозяина; но к глубокому чувству родства не примешивается помысел о чувственном обладании (всякое чувство у Гёльдерлина неудержимо уносится в высшую, в духовную сферу). Впервые в жизни он встречается с отражением идеала, когда–то чаянного или встреченного в Других мирах. И в странной аналогии стихам Гёте к Шарлотте фон Штейн —
Ах, когда–то — как давно то было! —
Ты сестрой была мне иль женой —
он приветствует Диотиму как желанную, как сестру в магическом предсуществовании:
Диотима, жизнь благая,
Искони сестра моя!
Рук к тебе не простирая,
Я вдали уж знал тебя.
Здесь его упоенная восторженность впервые встречает в раздробленном, порочном мире гармоничное создание, «все и одно»: «миловидность, и величие, и покой, и жизнь, и дух, и душа, и плоть составляют благостное единство в этом существе», и впервые в одном из писем Гёльдерлина, как звук органа, с беспредельной душевной силой гремит слово «счастье»: «Я все так же счастлив, как в первый миг. Это вечная, радостная, святая дружба с существом, которое случайно забрело в наше бездушное и беспорядочное столетие. Теперь мое чувство красоты ограждено от заблуждений. Ему служит маяком эта головка мадонны. Мой рассудок учится у нее, моя надорванная душа каждый час смягчается, просветляется в ее умиротворенном покое».
Вот в чем секрет необычайной власти этой женщины над Гёльдерлином: успокоение. Такой экстатической натуре, как Гёльдерлин, нет нужды учиться у женщины горению: счастье для его вечно пылающего духа — в разрядке напряжения, а возможность обрести покой — безмерное благодеяние. И эту благодать умиротворения дарит ему Диотима. Ей удалось то, что не удавалось ни Шиллеру, ни матери, ни единому человеку: гармонией она укрощает «таинственный дух беспокойства». Ее заботливо простертая рука, ее материнская нежность чувствуется в строках «Гипериона», угадываются ее старания привлечь к жизни этого смятенного, живущего в постоянных бурях юношу: «…советом и увещанием пыталась она сделать из меня спокойное и радостное существо, пробирая меня за беспорядочную прическу, поношенный костюм и обгрызенные ногти». Нежно охраняет она, будто нетерпеливое дитя, того, кто должен охранять ее детей, и в этом окружающем его и проникающем в его душу покое — блаженство Гёльдерлина. «Ты ведь знаешь, каким я был, — пишет он близкому другу — знаешь, как я жил без веры, как скуп стал в своих чувствах и как поэтому был несчастен; мог ли я быть таким, каков я теперь, — радостным, как орел, — если бы мне не явилось оно, оно одно?» Более чистым и святым кажется ему мир, с тех пор как вопль его неслыханного одиночества претворился в гармонию.