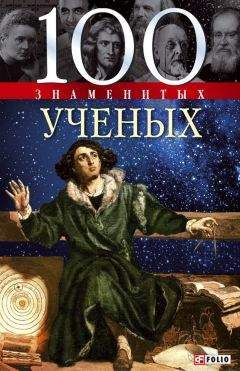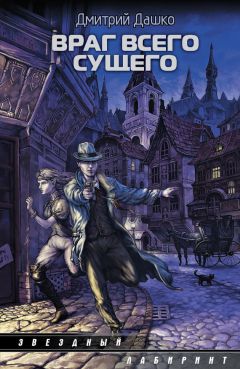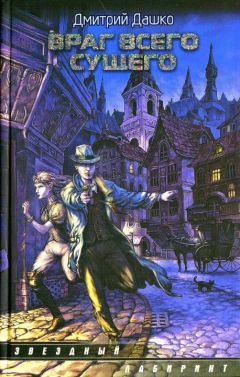Вадим Андреев - Детство
Я помню белые пятна мокрых простынь, развешенных в комнате, — они окружали меня плоскими, двухмерными призраками, наклоняясь к самому моему лицу, душили, холодные, скользкие. Помню, как поднимались у меня ноги — все выше и выше, как оставалась неподвижной голова, приклеенная к твердой, каменной подушке. Сквозь приторный запах лекарств, от которого начинала кружиться комната и вязкая тошнота подступала к самому горлу, сквозь мягкую мглу, окружавшую меня, проступала рука, клавшая мне на голову лед в резиновом влажном мешке.
Днем я видел торчавшие в окне чопорные и строгие вершины сосен. Они иногда приходили ко мне на свиданье, их колючие пальцы щекотали меня, я начинал смеяться внутренним смехом, переходившим в приступы кашля. Кровавая мокрота пачкала подушку, прилипала к лицу, оставляя на щеках противную, ничем не смываемую корку. После таких приступов я проваливался в небытие — черная вода с коротким всплеском смыкалась над головой, мне становилось тяжело дышать, все исчезало. Медленно я высвобождался из пеленок мрака: первым просыпался слух — я еще ничего не видел вокруг, но сознание уже улавливало странные, необъяснимые шорохи, наполняющие комнату, шум ветра, запутавшегося в ветках деревьев, приглушенные голоса Екатерины Александровны, Ларисы, Игоря, — слова катились, ползли по полу, непонятные, лишенные всякого смысла. Наконец сквозь полузакрытые веки начинал пробиваться свет — острые лучи стеариновой свечки, окруженные радугой, повисшей на ресницах, еще сильнее болела голова и отчетливее не хватало дыхания.
После кризиса, наступившего на пятый день, началось медленное, тягучее выздоровление. Полтора месяца мой мир ограничивался ватными, тяжелыми, как панцири, компрессами, запахами йода и спирта, стаканами, быстро наполнявшимися рубиновой мокротой, наглухо закрытыми окнами — там, между сосен, июньское солнце и пролетающие в небе облака, — жаждой, отчаянной, не отпускавшей меня ни на минуту, мучительной жаждой: мне разрешали пить не больше одного стакана воды в день.
Только когда я уже был в состоянии сидеть на кровати, ко мне в комнату стали пускать Игоря — до тех пор бессменно, и ночью и днем, меня сторожила Екатерина Александровна. Я оценил ее ловкие, сухие руки, никогда не причинявшие мне боли, ее нежность — впервые после ухода Дочки я перестал ощущать одиночество, до тех пор не отстававшее от меня ни на шаг.
Игорь садился у окна, его веснушчатое лицо, озаренное косым лучом солнца, огненно-рыжим пятном выделялось на темном фоне стены. Быстрые руки, с длинными, сухими, как у матери, пальцами, быстро перебирали все стоявшие на столе предметы — пузырьки с лекарствами, стаканы, книги, — ни секунды они не могли оставаться в покое. Это непрерывное движение, эти взлеты и падения узких розовых ладоней подчеркивали сущность всей его натуры — Игорь был стремителен, настойчив, всегда увлекающийся и беспокойный, казалось, он не мог ни на чем остановиться надолго:
Однажды, когда иссякли наши обыкновенные мальчишеские разговоры, он налгал рассказывать мне фантастический роман, в котором мы были главными действующими лицами. Рассказывал он легко, плавно, без труда находя все нужные слова, легко подчиняя ритму своих беспокойных рук длинные периоды, придаточные предложения, вводные слова, так что самая сложная фраза получалась у него круглой, завершенной, как будто готовой к печати. Роман был бесконечен — продолжавшийся после нашего возвращения в Петербург, во время долгих воскресных прогулок, вечером, когда мы ложились спать, — он так и остался незаконченным. Чего только здесь не было — фантазия Игоря была неудержима: всемирный потоп и жизнь уцелевшей горсточки людей на вершинах Памира, окруженного водой (впоследствии Игорь стал большим знатоком афганского народа и Афганистана — не с этих ли дней появилась у него тяга к Средней Азии?), сменялись государством, которое мы основывали на Филиппинских островах, потом появлялась война с японцами на Формозе, бесконечные героические приключения подводной лодки, одним движением руки превращавшейся в самолет, описание жизни золотоискателей на Аляске, революция в Петербурге и свержение Николая Второго, полеты на Марс — все чередовалось в непрерывном, ежесекундно менявшемся калейдоскопическом вихре. Иногда нить повествования Игорь передавал мне. Не стесняясь моими неудачами, он подсказывал, направлял, пока я сам, без посторонней помощи, не научился выдумывать новые, неожиданные приключения и не постиг тайны управления непокорными, разбегавшимися во все стороны словами.
10
Только к концу лета, когда мы уже собирались уехать из Ассерна, я вполне выздоровел. Раны в легких зарубцевались, окружающий меня мир казался свежевымытым — новым и веселым. Блуждая по крутым, поросшим высокими соснами, засыпанным хвоей дюнам, я вдыхал, тоже по-новому, так, как дышится только после тяжелой болезни, густой, смолистым воздух, следил за рыбачьими парусами, которые скользили между рыжими стволами по отполированному штилем Балтийскому морю. Иногда я убегал к реке Аа, протекавшей недалеко от дачи, в которой мы жили, и там, усевшись на сухом шершавом мху, под легкой, уже слегка желтеющей зеленью молодых берез, смотрел, как на другом берегу возились рабочие: в воздух взлетал казавшийся издалека игрушечным полупудовый молот и, на мгновение неподвижно повиснув в воздухе, падал, ко проходило две или три секунды, прежде чем, перелетев реку, до меня доносился отчетливый, как будто прижатый к земле расстоянием, веселый звук удара.
Осенью, после возвращения в Петербург, я поехал на несколько дней погостить на Черную речку. Дома мне все показалось чужим я незнакомым: мои крахмальные воротнички и манжеты совершенно не вязались с укладом нашей Андреевской жизни. За столом я невольно подмечал, кто как ест, кто делает вопиющие, с рейснеровской точки зрения, ошибки. Когда мне забыли дать салфетку, я принял забывчивость почти за варварство. Из попыток моих заговорить с отцом так, как я привык разговаривать с Екатериной Александровной, как равный с равным, ничего не вышло: он поднял меня на смех.
— Ты думаешь? Да ты погоди еще думать, рано.
Накануне моего отъезда я зашел в кабинет и увидел отца заснувшим на диване. Я подошел на цыпочках, стараясь не шуметь, и наклонился над ним. Он спал скрючившись, поджав ноги в черных, на резинках, испачканных глиною башмаках, дыша тяжело и неправильно. На щеке виднелся отчетливый красный рубец от скатившейся в сторону кожаной подушки. Правая рука откинулась в сторону, и согнутые пальцы медленно, ритмически, то сжимались, то раскрывались па несколько мгновений, обнажая золото обручального кольца, то снова пряча его тусклый блеск.