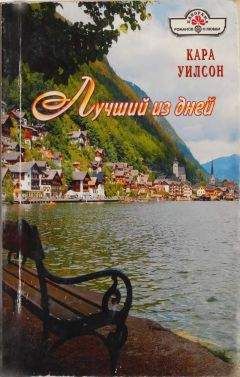Никита Михалков - Публичное одиночество
(2004)
Я очень уважаю этого человека, я очень люблю его картины, и я считаю его человеком с тайной. Он человек самостоятельный, он человек независимый, и он человек просто талантливый. И поэтому я у него соглашаюсь сниматься…
Есть Балабанов, который снимает серьезные картины, где есть кровь, где есть экшн, а есть развлекательные вещи, как «Брат», «Брат – 2», но это не пустое кино.
Я не пересмотрел свою точку зрения. Потому что моя точка зрения зиждется не на том, чтобы было, как было, а на том, чтобы в любом движении, которое у художника существует, оставалась корневая система национальных традиций. (V, 19)
(2005)
Интервьюер: Балабанова Вы когда-то сильно критиковали?
За фильм «Про уродов и людей».
Разве не за «Брата»?
Не-ет! «Брат» мне очень нравится – и первый, и второй!
Хотя сам факт, что мне может нравиться этот метод общения с миром, меня обижал. Но это очень здорово, качественно было сделано.
«Война» – по-моему, декларативная картина.
Но Балабанов – мастер, этого не отнять. (I, 117)
(2009)
Интервьюер: Вам картина Балабанова «Груз-200» понравилась?
К сожалению, я ее не видел.
На диске Алексей просил не смотреть, а в кинотеатр я не попал – не успевал, поскольку снимал сам… Так она и прошла мимо. Посмотрю, но пока не знаю когда. (I, 137)
(2013)
Я считаю, что Леша был выдающимся режиссером. Это был странный, неудобный, но с потрясающей внутренней, стержневой структурой человек, потрясающий кинематографист, он чувствовал и знал кино. Совершенно непоказной, в нем не было ничего такого «режиссерского», он был абсолютно погружен в то, что делал.
Я считаю, что Балабанов – это целая планета, которая будет существовать столько, сколько просуществует кинематограф.
Думаю, что много-много людей, которые не знали его фамилию, но знали картину «Брат», тяжело вздохнут, узнав, что его больше нет. Я выражаю соболезнование всем нам, нашему кинематографическому цеху, потому что ушел замечательный, мощный, талантливый художник. (XV, 78)
БАЛАЯН ЗОРИЙ
(2005)
С одной стороны, довольно легко говорить о Зории Гайковиче, с другой – очень трудно, потому что по разносторонности своей, по полярности поступков и жизненных коллизий, в которые он попадал в течение своей жизни, я думаю, мало кто может с ним конкурировать.
Однако от того, что нас связывало в течение какого-то периода жизни (это было тридцать с лишним лет назад), у меня лично остались воспоминания о самой, может, привлекательной и прекрасной поре в моей жизни – о моей службе на флоте, на Дальнем Востоке, на Камчатке, и о нашем легендарном походе на собаках и оленях в течение ста семнадцати суток.
Я должен сказать, что Зорий, как я понимаю, был, наверное, с детства абсолютно самостоятельным человеком со своим оригинальнейшим мышлением, со своей очень острой хваткой ума, с очень порой парадоксальными решениями. В то же время ему совершенно доступно было как бы и наивное, трогательное внимание и интерес к самым простым вещам, которые волнуют любого человека.
И в этом смысле Зорий уникальная личность. И я лично благодарен ему за то, что в довольно тяжелый период моей жизни, когда в отрыве от дома оказался в новых, непростых для московского человека условиях, Зорий был настоящим другом. Кто знает, тот поймет, что такое, когда, скажем, после долгого пребывания в казарме вдруг оказываешься в квартире, в тепле, с ванной, с едой, в уюте – словом, на свободе. Это вот тепло камчатское для меня во многом связано исключительно с личностью Зория как старшего товарища, как доктора, а в какой-то ситуации еще как заступника. Он был на свободе, по одну сторону ограды, а я – по другую сторону контрольно-пропускного пункта. В таких условиях начинаешь ценить самые простые вещи, на которые не обращаешь внимания в обычной жизни… Поэтому в этом смысле школа, которая была мной пройдена там, на Камчатке, равно как и конкретные уроки этой школы, а также многие страницы нашей общей тетради, которые мы написали вместе с Зорием Балаяном, – это как бы часть моей жизни. И я за это Зорию благодарен.
А еще, мне кажется, поразительное и очень важное качество, человеческое и мужское, оно заключается в том, что Зорий относится к такому типу людей, которые ставят цель и непременно ее добиваются. Вряд ли кто может представить себе, как это было сложно – организовать экспедицию на собаках и оленях с юга Камчатки до севера Чукотки. Это ведь не просто сложно, это все муторно, да еще в рутинной обстановке. Это только он мог убедить нас, чтобы экспедицию назвали «Карабахом». Почему «Карабах»?! На собаках. Зимой. Через Камчатку. И вдруг – Карабах. Казалось – непонятно. Но это – Зорий. Для него Карабах – это не просто место на земле, географическая точка. Это его жизнь. Тогда я и впрямь не очень понимал. Лишь потом я понял, когда все началось там. Понял, что к чему. И понял, почему Карабах. В то время я понимать не мог. Ну предложил назвать Карабахом, давай и назовем. Но Зорий уже тогда во все вкладывал несколько более глубинный, более объемный смысл, нежели просто географическое понятие, географическое название.
Зорий, как я уже сказал, очень разносторонний, одаренный человек. И, как я понимаю, в течение всей дальнейшей жизни эта разносторонность не покидала его. И я знаю, что совсем недавно он совершил морское путешествие. Кстати, Зорий меня тоже туда звал. Он куда-то плыл. С друзьями они шли морем к океану. И снова его настойчивость, его молодость, его авантюризм. В этом смысле он абсолютно из тех, кто открыто говорит: «Да, я авантюрист, но я из тех авантюристов, которые рискуют своей шкурой, а не чужой». Наверное, в этот раз на море он рисковал опять. И, надеюсь, выиграл, добился своей цели. Меня, естественно, это ничуть не удивило.
Я хорошо помню, как Зорий вместе со своим другом, капитаном небольшой яхты «Дельфин» Вячеславом Пантелеевым, летом 1972 года чуть ли не ежедневно выходили в знаменитую Авачинскую бухту. Мне посчастливилось несколько раз, по выходным, когда получал увольнительные, выходить с ним на яхте в море.
Вот что писал Зорий о тех днях наших походов в своей книге «Белый марафон»: «Дух захватывало каждый раз, когда приближались к Трем братьям – трем гигантским скалам, стоящим бок о бок у входа в открытый океан. Туда нас всегда тянуло – на простор, где и цвет воды другой – более небесный, где и волны покруче, и белые «барашки» побелее и покрупнее! Но слишком маленький наш «Дельфин». Он даже меньше тихоокеанского «барашка». Да и не делается это просто так – захотел и вышел в океан. А главное – тогда у меня была другая цель, другая дорога».