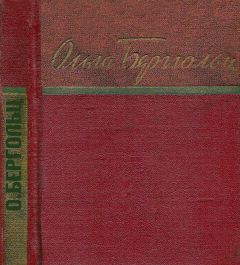Ольга Ваксель - «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи
Распутин вваливался в грязных сапогах и ни за что не хотел надевать халата. Моя мать бесстрашно с ним воевала, рискуя вызвать гнев императрицы. Великие княжны тоже ежедневно бывали на перевязках, работали наравне с сестрами. Это две старшие. Младшие[174] же оставались девчонками, хохотали и говорили глупости, играли с ранеными в шашки и в военно-морскую игру[175]. Мария, желая удивить, складывала собственное ухо вчетверо, и оно так и оставалось. Она с любопытством смотрела на производимое ею впечатление.
Моя мать в гололедицу подвернула ногу, разорвала связки в подъеме. Ее привезли с распухшей синей ногой, уложили надолго в постель. Опять приезжали Боткин и Гедройц, присланные Александрой Федоровной, иногда появлялись старшие княжны. Они приезжали без предупреждения, влетали, щебетали и сидели недолго, ели конфеты из английского магазина, совали всем под нос платки: «Не правда ли, хорошо пахнет — это ландыш Остроумова[176]. Мама кланялась, поправляйтесь скорее, все без вас скучают». — И улетали так же быстро, как появлялись, в своих красных шубках, в высоких санках.
Часто в гостях у нас был штаб-ротмистр Крымского Е[го] В[еличества] полка, Георгий Владимирович барон Кусов[177]. Это был двадцативосьмилетний молодой человек, очень высокий и худощавый. Он был ранен и контужен и принадлежал к числу маминых питомцев в лазарете. Разрывная пуля в бедре, гангрена, долгая борьба со смертью. Один из первых дней выздоровления — поездка в Петербург — крушение поезда — перелом ключицы и ребер, рана раскрылась и опять долгое лежание в неподвижности. Моя мать, по-видимому, посвятила ему много времени и внимания, потому что в его лице приобрела преданнейшего друга. Мой отчим, вообще вздорный и ревнивый, тоже отнесся к нему очень благожелательно. Георгий Владимирович переживал большую драму: его жена Вера Иллиодоровна Горленко увлекалась Распутиным, бывала в его кружке и, что главное, не хотела иметь детей.
А мы с Пушкинятами с ранней весны увлекались велосипедами. Нас было четверо, велосипедов было два. Ко мне ходила француженка, кроме того, у нас была общая англичанка Miss Laborde. Она одевалась с ужасным безвкускием, но была молодой, общительна, подвижна. С нею мы поочередно совершали большие прогулки на велосипедах по паркам. Моя француженка также не отказывалась от поездок в Павловск. Там делали остановку на ферме[178] и закусывали с большим аппетитом на открытом воздухе. Там можно было получить свежее молоко, сливки, творог, сметану, простоквашу, варенец, всевозможные омлеты.
Ферма находилась среди парка и была излюбленным местом для завтраков у дачников. А.Ф. Смольевский стал наконец, видим и доступен. Ровно в десять утра он отправлялся на поезд, около трех возвращался, проводил три-четыре часа на теннисной площадке, восхищая своим белым костюмом и мальчишеской подвижностью. Потом он переодевался и уезжал опять в город развлекаться. Когда он возвращался, я не знаю — в девять часов меня укладывали спать. В этом вопросе, и только в этом, со мною были строги. Во всем остальном, как-то: в выборе книг, отлучках из дома — мне предоставлялась полная свобода.
Я уже перечитала всего Толстого, Тургенева, Гончарова; Чехов до сих пор остался моим любимым автором.
Однажды мы были приглашены к «Арсеньке», как называли его ученики школы Левицкой, на специально для нас устроенный шоколад. Мы явились к нему ряжеными, нацепив на себя платья наших мамаш. Мы надели корсеты и подсунули подушки вместо бюстов. Наступая на подол, путаясь в юбках, мы с хохотом ворвались в его маленькую квартирку, напугав его хозяйку, старую немку, Fraulein Лундберг[179]. Мы перерыли у него все ящики, съели весь найденный шоколад, взяли с него обещание, что он будет привозить еще (обещание, добросовестно им выполненное), и, перевернув все вверх дном, убежали так же быстро, как появились. На лестнице я потеряла корсет через ноги, и это обстоятельство сыграло впоследствии большую роль в моей жизни. «Арсенька»[180] мне казался идеалом и вдохновлял меня писать стихи.
Когда потянулись вечерние тени
и золото меркнет последних лучей, —
с зеленых качелей, свидетель сражений,
ракет златострунных и белых мячей,
с замедленной живостью резких движений
из нашего сада, где столько сирени, —
слежу, как он вышел, весь в белом Арсений.
Зачем-то весь в белом, надуманно весел
(веселости этой не хочется верить)
с зеленых глядит, раскачнувшихся, кресел,
как в теннис играют Израиля дщери.
Пусть Юра взберется ему на колени —
его ли обрадует детская ласка.
Я вижу, что вечер прозрачно весенний —
печалей его нарастающих — маска.
Похож на Орфея в пустыне молчащей
(мячи разбежались, скорее кончайте!)
Волос красноватый отлив на закате,
Мальчишески тонкая шея.
Смотри, как рассеянна холодность взгляда
От лишних вопросов Вавули ограда,
и ясно, что с ним говорить мне не надо[181].
Конечно, я тщательно скрывала свой интерес к его особе и не ждала уже, чтобы ко мне относились как к взрослой. Но и Арсений не казался мне способным на грубость. Я с любопытством и ревностью наблюдала его шуточные ухаживания за взрослыми барышнями. Серьезно он ни за кем не ухаживал, потому что был в то время влюблен в некрасивую и немолодую учительницу музыки, любовницу его приятеля. Я догадывалась и об этом и с сочувствием и интересом наблюдала изменения в его настроениях в зависимости от ее поведения. Я знала, что она вместе с его приятелем смеется над ним, а он этого не замечает. Впоследствии я узнала из его дневников, как начался этот неудачный роман, единственный в его жизни роман.
Между тем мой отчим уехал на фронт, получив командование бронепоездом в Карпатах, моя мать собиралась переезжать в Петроград, а меня и девочек Пушкиных готовили к поступлению в институт[182]. Мне очень жаль было уезжать из Царского, казалось, что с этим отъездом кончается мое детство. Фактически оно кончилось уже давно, но мне казалось, что я могу еще быть как все дети — играть, ни о чем не помнить. Около этого времени появился снова мой отец, амнистированный, получивший право поступить в полк, обновленный, но сильно постаревший, с проседью в волосах.
Одновременно с нашим переездом мне было объявлено о том, что я буду жить в институте. Я была огорчена и испугана, мне совсем не хотелось отрываться от матери, которую я и так редко видела.