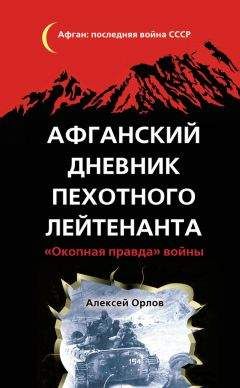Игорь Волгин - Последний год Достоевского
В 1879 году ни Толстой, ни Достоевский не пользовались такой громкой писательской славой, как Тургенев. По позднейшему замечанию С. А. Венгерова, бывшего свидетелем тургеневских триумфов, «публика и критика поняли впоследствии, что Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто хороший писатель, а они оба гениальны»[154].
Достоевский не любил Тургенева.
К «истории одной вражды»Эта нелюбовь уходила своими корнями ещё в сороковые годы. Придя поначалу в восторг от остроумного и блестящего Тургенева, Достоевский очень скоро охладевает к своему новому знакомцу. Он никогда не мог забыть тех унижений, которые испытал от него в молодости: насмешек в глаза и за глаза, анекдотов, рассказываемых в злоязычном литературном кругу, откровенно явленного превосходства.
После каторги отношения установились сдержанные и довольно ровные: горючий материал накапливался постепенно.
Уже двенадцать лет, как они были в ссоре. С того самого июльского дня 1867 года, когда в немецком городе Бадене Достоевский в последний раз посетил Тургенева и окончательно с ним «расплевался». Двадцатилетние отношения завершились полным разрывом.
Достоевский изобразил тогда эту сцену в подробнейшем письме А. Н. Майкову: автор «Дыма» ругает Россию и всё русское и хвалит немцев; в свою очередь автор «Преступления и наказания» язвительно советует ему купить телескоп, дабы лучше видеть, что, собственно, происходит на отдалённой родине.
Нашёлся доброжелатель, переславший копию этого послания П. И. Бартеневу, издателю недавно возникшего «Русского архива», – для сохранения и обнародования лет этак через двадцать – двадцать пять[155]. Узнав об этом «донесении потомству», Тургенев поспешил оправдаться, выбрав своим доверителем того же Бартенева.
В письме, предназначенном не столько его прямому адресату, сколько будущим потенциальным читателям, Тургенев со скромностью, тайно жаждущей возражений, замечал, что, хотя «в 1890 году и г-н Достоевский, и я – мы оба не будем обращать на себя внимания соотечественников», он тем не менее «почёл своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Далее автор письма приводил следующий неотразимый довод: он уже потому полагал бы неуместным выражать перед Достоевским свои задушевные убеждения, что считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». «Впрочем, – добавлял Тургенев, – это мнение моё разделяется многими другими лицами»[156].
Следует заметить, что корреспондент Бартенева несколько опережал события. Правда, эпилепсия Достоевского ни для кого не была секретом, да и сам он её отнюдь не стыдился, а даже любил при случае «выставлять» свой недуг (со смешанным чувством горести и гордости одновременно). Но перенесение признаков болезни с самого автора «Идиота» на его сочинения и (как в данном случае) на его общественное поведение станет печальным обычаем несколько позднее[157].
…Они не встречались и не переписывались двенадцать лет. Правда, в марте 1877 года Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому некоему Эмилю Дюрану, составляющему в Париже «монографии» о русской словесности. «Я решился написать Вам это письмо, – заканчивал своё краткое послание Тургенев, – несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на моё мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе»[158].
Это было великодушно: за человеком, не вполне обладающим «собственными умственными способностями», признавался талант.
Может быть, не лишено справедливости мнение, что Тургенев воспользовался подходящим предлогом для возобновления переписки и его письмо было осторожной попыткой наладить расторгнутую связь. Во всяком случае, это был жест. Неизвестно, отозвался ли Достоевский на это послание (скорее всего, нет, так как оно по своей форме и не требовало обязательного ответа), но, во всяком случае, атмосфера возможной в будущем встречи была несколько умягчена[159].
Встрече суждено было состояться 9 марта 1879 года.
Вечер первыйВ зале петербургского Благородного собрания устраивался вечер в пользу Литературного фонда: подобные вечера пользовались наибольшим вниманием публики. «В программе был такой цветник имён писателей, – замечает современник, – что если бы вечер повторить трижды, то и тогда бы зал каждый раз был переполнен»[160]. Действительно, «цветник» оказался изрядным: Тургенев, Достоевский, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин…
Согласимся, что присутствие на литературном вечере трёх классиков одновременно всегда чревато осложнениями.
«Не обошлось и без маленького скандала, – подтверждает подобные опасения очевидец. – Когда Тургенев прошёл за занавес в комнату для чтецов, в коридоре он столкнулся со Щедриным и протянул ему руку; тот слегка взял её и отворотился. Достоевский сделал то же. “Здесь что-то холодно!” – заметил Тургенев своему спутнику и вышел из комнаты».
Сдержанность Салтыкова понятна: у редактора «Отечественных записок» с Тургеневым свои счёты. Что касается Достоевского, то и у него, естественно, не было оснований для особых восторгов.
Во всяком случае, дипломатические формальности были соблюдены.
Весьма симпатизирующий Тургеневу мемуарист (Д. Н. Садовников) сообщает далее, что коллеги писателя правильно оценили его демарш «и после подходили к Тургеневу, заводя с ним разговоры о разной всячине»[161]. Публика, хотя и не ведала, что делается за кулисами, могла догадываться о некотором неблагополучии, ибо отношения Тургенева и Достоевского ни для кого не были тайной.
Кстати, один из присутствовавших в зале так пишет об этом «прискорбном случае»: «Тургенев подошёл к Достоевскому и протянул ему руку, Достоевский не подал ему руки и отвернулся».
Как видим, подлинный факт обрастает драматическими подробностями. «Впрочем… – добавляет мемуарист, – описанный случай прошёл незамеченным публикою, так как писатели встретились не в общей зале, где происходило чтение, а в одной из комнат, в которых посторонних почти не было, и я услышал о происшедшем от двух-трёх лиц, приехавших со мною после литературного чтения к Я. П. Полонскому»[162].
Несмотря на некоторую «закулисную» напряжённость, вечер прошёл блистательно. Хмурый Салтыков с длинною бородой и одутловатым лицом «вяло-брюзгливым и монотонным голосом»[163] читал отрывок из «Современной идиллии» – о том, как пришёл Глумов и сказал, что «надо погодить». И облик чтеца и сам его голос как нельзя более шли к мрачному колориту рассказа. «Я так и думал, – пишет Садовников, – что он в конце концов нетерпеливо крикнет: “Ну, чему обрадовались? Черти!”»[164]
«Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворённой улыбкой, – свидетельствует другой воспоминатель. – Все понимали, что значит это глумовское “надо погодить”»[165].
Литературные чтения обретали важность политическую. В насыщенной электричеством атмосфере 1879 года слова проскакивали как грозовые разряды. Щедринское «годить» или «не годить» обретало гамлетовский оттенок.
Салтыкова вызывали три раза.
Достоевский читал, как он это делал всегда, в начале второго отделения (он любил выходить на эстраду после антракта, когда публика затихала, шурша программами). В последнее время он стал чаще являться перед публикой. Однако это выступление было особенным. И не только потому, что присутствовал старый соперник. Имелась ещё одна причина – капитальнейшая.
Впервые публично читались «Братья Карамазовы».
Вокруг дебютаВот уже два месяца, как роман печатался в «Русском вестнике». Мнение о нём ещё не установилось: толки ходили разные. Не последовало пока и обстоятельных печатных разборов. Правда, кое-какие суждения уже имелись.
Автор, скрывшийся под псевдонимом «Некто из толпы» (это была дама – Е. П. Свешникова), писал в «Кронштадтском вестнике»: «С такими писателями, как Достоевский, можно не соглашаться, но не уважать их нельзя, потому что они никогда не виляют, никогда ни на минуту не примыкают к многочисленным последователям известного: “с одной стороны должно признаться, а с другой стороны нельзя не согласиться”»[166].
Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» – Грушенька. «Эта Грушенька, – замечает Скабичевский, – пока ещё скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всём своём блеске, окажется без сомнения в свою очередь маньячкой и тем не менее завлечёт в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея…»[167]