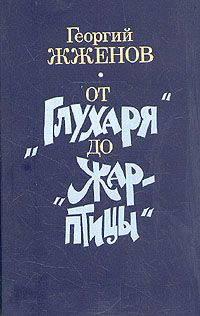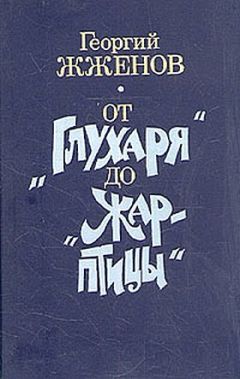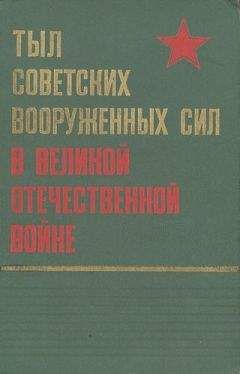Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)
– Знаешь, каждый день рождения мама ко мне приходит.
Я смотрела на папу и не увидела ни недоверия, ни удивления – только горькую задумчивость. Значит, он не будет насмехаться надо мной, и тогда я сказала:
– Знаешь, с Сережей все-все будет хорошо. Сегодня я видела удивительный сон:
Я иду вдоль по полю с сыном моим Гешкой, справа течет голубая прозрачная река, вдруг перед нами зависает неподвижно птица. Величиной с ворону и темная. Я поражаюсь, что птица неподвижно висит, и вдруг птица исчезает, а гораздо ближе, немного сзади появляется мама. Она на белой, «онегинской» скамье с витой спинкой, почему-то вниз головой, одетая в белую блузку и голубую кофточку. Я бегу к ней и думаю, что-то с ней случилось. И сразу меня успокаивает мысль: раз я ее так вижу, значит, ей там хорошо. Подбегаю и вижу, что она не одна, рядом с ней сидит Богородица. Мама наклоняется и бросает вниз голубой платок, который, медленно кружась, покрывает меня.
Папа смотрит внимательно прямо в глаза и молчит. Потом мы идем и не заговариваем больше об этом.
Тогда же я сделала вторую попытку и написала второй рассказ.
В Черноголовку мы приехали с папой в конце марта, а в начале апреля он отправился в Ленинград на 50-летие окончания академии, я сопровождала его.
Папа был в Ленинграде в последний раз. Я просмотрела книжку выпускников 1932 года, из 170 слушателей к тому времени осталось в живых 64.
К моему удивлению, папин выпуск был в основном его возраста, то есть кончали академию уже взрослыми людьми, в возрасте двадцати восьми – тридцати лет.
Умер Оскар Геринг, умер Баранов Сергей Арсеньевич, который когда-то на занятиях по латинскому языку, указывая папе на латинское N, говорил: «Это я знаю, это номер, а вот этого, – указывая на обозначение хлора, – не знаю». Умер Прошкин Игнатий Силантьевич, который тогда не знал ни того ни другого. Но был жив Объедков Виктор Трофимович, бывший пастух, который на вопрос профессора, державшего пинцетом кожу трупа: «Что это?», – ответил: «Шкура». К Вите Объедкову папа на первом курсе во время каникул ездил в Тамбовскую деревню по заснеженным лесам, возница гнал лошадей, поминутно оглядываясь – в лесу водились волки.
Был жив генерал-полковник Смирнов Ефим Иванович, которого папа, при своем независимом характере, можно сказать, боготворил.
Организатором встречи были Сергей Сергеевич Поггенполь и Симон Нахимович Черномордик. Я помню эти имена – вероятно, каждую встречу организовывали именно они, в нашей семье часто звучали эти фамилии. До сих пор у меня хранятся две бандероли с ленинградским адресом Поггенполя и бийским адресом Объедкова. По просьбе папы я должна была отослать его книги, даже запаковала, обвязала бечевкой – и не отправила, папа был прав, когда говорил: «Какая же ты неорганизованная». Они лежат в шкафу, потемневшие от времени, и рука у меня не поднимается развязать эти бечевки, распечатать их и посмотреть – что за книги папа пересылал со мной.
От этого последнего посещения академии осталась фотография, размытый снимок в газете: участники встречи сидят перед зданием Главного штаба академии, я насчитала всего человек двадцать. В первом ряду, в середине, сидит папа: в генеральской шинели, улыбаясь, сложив руки на животе.
Нас поселили во дворе Академии, за сплошным железным забором, куда можно было пройти только по пропускам. Поселили в двухэтажном коттедже, на первом этаже, в двух комнатах, нас там же и кормили – и весь дом пропах дорогой кухней. Папа почти все время лежал, но когда я попыталась бросить его и промчаться по Ленинграду, он забеспокоился:
– Куда?
– К Пушкину.
Папа оживился, привстал на кровати:
– Возьми меня, Ингочка, с собой.
Я была убита. Куда с ним по автобусам, он еле поднимает ноги, потом идти до музея, а сначала к Финляндскому вокзалу… И он будет висеть на мне. Нет, это невозможно.
– Папа, это невозможно, – сказала я. – Это далеко, ты устанешь, ступеньки в автобусе такие высокие.
Он глядел на меня грустно, глаза были маленькими и печальными.
– Высокие ступеньки? – переспросил он.
– Ну да, потом очередь.
– Ничего, – сказал он, – как-нибудь.
– Нам же надо в два часа быть здесь, у тебя заседание, ты устанешь.
– Мне бы так хотелось. Я никогда там не был…
– Не успеем.
Я была неумолима. Страх, что я испорчу себе эту прогулку, сделал меня беспощадной.
Папа почувствовал.
– Я очень быстро обернусь, – сказала я. – Всего час, максимум полтора.
Впервые так решительно отказала папе в его просьбе, хотя чувствовала, как ему хочется посетить квартиру Пушкина. Всю дорогу, торопясь к Пушкину, я видела, как папа обреченно укладывался на кровать, повторяя:
– Через час ты уже вернешься, Ингуся?
Я бежала по Литейному мосту – черные, с выпуклой грудью русалки, круто изогнувшись, смотрели на меня, держа в руках вензель, как щит. Эти черные женщины были как раз на уровне моего роста, когда мне было четыре года, и мама, крепко держа за руку, спешила по мосту, а в пролетах между черными головами синела Нева.
Меня гипнотизируют головы, глаза, грудь. Меня тянет Троицкий мост, Лебяжья канавка, красные свечи Ростральных колонн. Под мостом, как белые медведи, громоздятся льдины. Они тяжело выпрыгивают из воды, крошатся и вновь, кружась, пропадают в синей Неве.
Я бежала по набережной, то и дело касаясь, как в детстве, шершавого парапета.
Надо мной было необычно ярко-голубое небо, как будто Господь открыл второй этаж, почти всегда заколоченный, и этот голубой этаж устанавливал сейчас прямую связь с вечностью.
Дом Пушкина немного перестроен. Изящный дом, вход из-под арки. Ряд окон на улицу, ряд во двор. В какую дверь выходил он перед дуэлью, в какую его внесли? И где упала Наталия Николаевна, увидев его? Во дворе стоит небольшой памятник. Гений, знающий себе цену и так легко носящий свою гениальность, что этим вводил в заблуждение многих. «Я тогда понятия не имел», – что-то такое спустя годы вроде сказал Дантес. Я сажусь на скамейку и смотрю, смотрю на небольшого роста черного человека в черном котелке. Душа гения спрятана в теле светского повесы.
Еще раз прошла по мосту, скосив глаза на окна Пушкина. Не может быть, чтобы его рука не касалась перил этого моста. Дом, выходящий на Лебяжью канавку, – лимонный, холодный, с коричневым орнаментом, во втором этаже ряд огромных черных окон, как ряд важных дам на балу, в огромных прекрасных головных уборах. Я спустилась по лесенке под мост, оттуда сильно пахнуло уборной, быстро поднялась и побежала обратно, касаясь рукой гранита, и единственными моими спутниками была Нева, вдруг освободившаяся ото льда, и напротив – скелет Петропавловской крепости, страшный и мертвый.