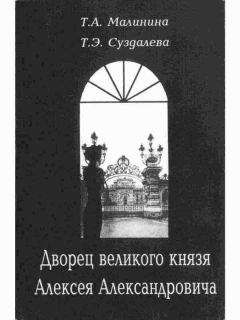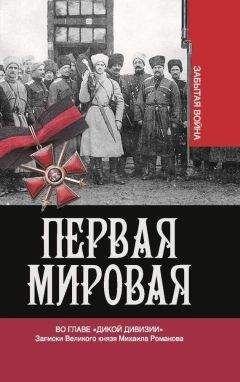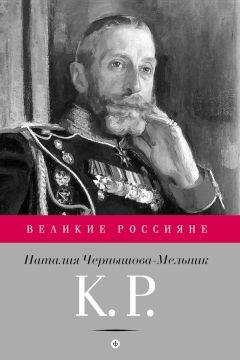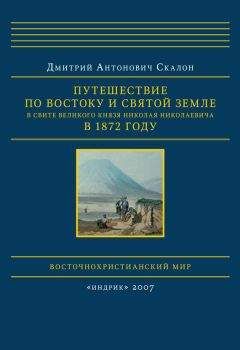Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
Не стоит ли здесь, кстати, сказать, что один из «чинарей», друг и философский наставник Хармса и Введенского Леонид Липавский, тоже был в числе авторов «Дракона» и участников третьего Цеха? К окружению Гумилева в 1919–1921 годах принадлежал и Владимир Алексеев, товарищ Введенского и Липавского по гимназии Лентовской. В 1922 году Алексеев начал писать работу, посвященную творчеству Гумилева. Ее сохранившиеся черновики включают и фрагменты, отразившие личные впечатления молодого стихотворца[159]. Вместе с товарищем (возможно, Введенским) Алексеев посещал Гумилева в его «низенькой комнате с двумя окнами» — «одновременно спальне и кабинете» (на Преображенской?). Похоже, он бывал в Цехе поэтов. Во всяком случае, вот один из его мемуарных фрагментов:
В одной из комнат Дома искусств во втором этаже у низко спущенной лампы с зеленым абажуром за большим столом сидят несколько человек. За одним концом человек с наголо остриженной головой с заостренным подбородком и белым лицом. Из-под пиджака высовывается подпирающий щеки крахмальный воротничок. Это Гумилев. В зубах непременная папироса, а подле на столе знаменитый гумилевский портсигар. Он говорит медленно, резким и протяжным голосом, поминутно останавливается, чтобы затянуться. В углу сидят трое. Один — Георгий Иванов с неудачно накрашенными губами, от которых розовеют папиросные мундштуки. Другой — поблескивающий стеклами пенсне Эйхенбаум, и третий — во флотском мундире, пока еще скромный и тихий, напоминающий большого мальчика, Нельдихен. Скучная лекция, неизвестно для чего читающаяся, подходит к концу… Но вот она кончится и все оживятся, и сам Гумилев будет с иронической улыбкой слушать стихи, награждая авторов дельными и меткими советами.
Дальше описывается состоявшееся в тот же день публичное чтение в Диске, на котором Блок читал фрагменты «Возмездия», а Гумилев — стихи из «Огненного столпа». А. Л. Дмитренко считает, что это «Вечер петроградских поэтов» 29 декабря 1919 года; но, как указывает он же, нет данных о чтении Блоком на этом вечере «Возмездия». Зато на вечере 4 сентября 1920 года Блок точно читал «Возмездие», а Гумилев (по-видимому, впервые) читал публично стихи из «Огненного столпа», в том числе «Заблудившийся трамвай». Видимо, в этот день молодой Алексеев и был в Доме искусств, а собрание, которое он описывает, — это очередное заседание Цеха поэтов.
Несколько раз появился в Цехе поэт, чьи стихи чрезвычайно заинтересовали Гумилева в конце 1920 года, — Николай Тихонов. Прежде неизвестный молодой автор подал заявление в Союз поэтов. Ответа долго не было. На поэтическом вечере в Доме искусств (том самом, где так блеснул Мандельштам) Тихонов подошел к Всеволоду Рождественскому и спросил о судьбе своего заявления.
…В следующем перерыве Рождесвеннский сам отыскал меня.
— Мы вас давно разыскиваем. Идемте, вас хочет видеть наш «синдик»…
Рождественский провел меня за кулисы, и в комнате за стеной я увидел весь Цех во главе с Гумилевым…
И вот меня приветствовал неожиданно Гумилев и сказал:
— У нас было подано больше ста заявлений, но мы приняли вас без всякого кандидатства, прямо в действительные члены Союза. Мы приняли троих из ста: Марию Шкапскую за книгу Mater Dolorosa, Оношкович-Яцыну за переводы Киплинга и вас.
Отзыв Гумилева о стихах Тихонова при вступлении в Союз сохранился:
По-моему, Тихонов готовый поэт с острым видением и глубоким дыханием. Некоторая растянутость его стихов и нечистые рифмы меня не пугают.
В поздних воспоминаниях классик советской поэзии Тихонов стремится дистанцироваться от Гумилева и в то же время подчеркнуть высокую оценку своих стихов с его стороны. Все это очень характерно для отношения к Гумилеву советского литературного истеблишмента. Но в автобиографии, написанной в третьем лице в 1926 году, Тихонов несколько более откровенен. «Очень кратковременое личное знакомство с Н. С. Гумилевым, — пишет он, — заставляет его сосредоточиться и задуматься над своей работой». Конечно, эта встреча была еще как важна для него! Между прочим, и в практическом плане: именно Гумилев в качестве председателя Союза поэтов ходатайствовал, чтобы краскома Тихонова оставили в Петрограде.
В Тихонове ныне вполне основательно видят если не эпигона, то по крайней мере последователя Гумилева — самого даровитого из множества его эпигонов и последователей. Эта мысль не нуждается в подтверждении. И все же влияние могло быть и двусторонним. Вот лишь один пример — стихотворение Тихонова «Медиум»:
В длинную яму летит без скрипа
Земля, как сбитый аэроплан,
Из него давно авиатор выпал,
Тяжелым ядром просвистел в туман.
А девочка смотрит на лунные
Ганги,
Трудно молчать и нельзя курить,
Как будто пришел заблудившийся
ангел
И страшно и сладостно ему
говорить.
Если гумилевское «У цыган» написано (как гласит одна из версий) в октябре 1920-го, ритм и интонация тихоновского стихотворения могли на него повлиять.
Сергей Нельдихен, 1923 год
Ранний Тихонов был сложнее и интереснее, чем кажется. Эпиграф к его первой книге «Орда» был воистину акмеистический: «Когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил…» (Баратынский). И, кроме пресловутых «Баллады о гвоздях» и «Баллады о синем пакете», кроме поэмы про мальчика Сами, который «молился далекому Ленни, непонятному, как йоги», он и впрямь создал в 1917–1922 годы ряд стихотворений, где «дикие силы», визуальные и звуковые стихии пореволюционого хаоса, скрещиваясь, достигали мощного и выразительного равновесья. В таких вещах, как «Огонь, веревка, пуля и топор…» или «Рыбаки» есть действительно волнующая глубина. Но уже в «Орде» и особенно в «Браге» (второй книге Тихонова) эти сильные стихи приглушаются тем, что Мандельштам язвительно называл «здравия-желаю акмеизм».
Он расскажет своей невесте
О забавной, живой игре,
Как громил он дома предместий
С бронепоездных батарей.
В Тихонове Гумилеву должно было нравиться то, что он (как и сам Николай Степанович) был во время войны гусаром. И то, что он (в отличие от Николая Степановича) был настоящим широкоплечим и суровым мачо, человеком действия и поступка. Увы, для поэзии его это оказалось скорее вредным… Тем более что такого рода эффектная мужественность сочеталась (не у него одного) с конформизмом и карьеризмом. Путь Тихонова после «Браги» пролегал (через еще интересные и сложные стихи середины 20-х) сперва — к бойкой гладкописи, а потом — к вершинам советской литературной иерархии и к полному творческому небытию.