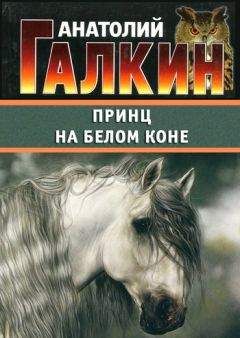Юрий Власов - Справедливость силы
Жаботинский являлся всего лишь олицетворением, символом того мира, то бишь той системы, чего он, кстати, не понимает и доныне. Именно с такой радостью и поспешностью меня отодвигали потом отовсюду, дабы забыть, исказить мое прошлое (занятие привычное: напрочь стереть память). Свое отношение к тем событиям я впервые высказал в интервью для журнала "Юность" в октябре 1988 года-в эпоху коллективного прозрения.
Тогда все было гораздо сложнее: я не принадлежал себе, я был профессионалом. Именно это право государства (спортивного клуба и Госкомспорта СССР) на мою силу, которую я уступал за определенную месячную плату, и порождало все конфликты. Лицемерный статус любительства делал нас, спортсменов, бесправными. И в самом деле, ведь мы любители. Кто нас неволил? Нет силы, недоволен – уходи.
Я не принадлежал себе и не мог с этим мириться. Какие бы принципы ни декларировались, я был всего лишь вещью – пусть живой, но вещью. И отстаивание своих прав или прав товарищей вызывало клевету и злобу аппарата. Однако заткнуть мне рот представлялось делом не столь легким. Я носил единственный в своем роде титул "самого сильного человека в мире", и носил, надо сказать, с честью. Вся надежда моих хозяев по спорту (и не только по спорту) возлагалась на соперника, хотя бы равного по силе. Лишь он был в состоянии развенчать меня – и тогда эти люди получали возможность сводить со мной счеты по всем направлениям.
Я редко срабатывался с начальством. Это не только настоящие трутни, но в большинстве своем и разрушители нашей жизни. И как бы по чьей-то великой росписи – неподсудные, не ответственные за преступления перед нами. Это как бы существа, рожденные вовсе не от земных людей,– бездушные, высокомерно-лживые и поразительно жалкие, ничтожные без своих регалий и званий.
Да, я неуживчив, но, согласитесь, сложно быть уживчивым с теми, кто едва ли не всех и не все попирает и, за малым исключением, рассматривает свою должность как феодальное право распоряжаться людьми. Какой страшный след они оставили (и оставляют) на нашей земле…
Мне претит роль человека страдающего, заслуживающего жалости. Как умел, подавлял в себе слабость…
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Если бы желтая кофта действительно уберегала от осмотров! Нет, не убережет. Человек настолько хрупок, настолько уязвим, что даже при самых совершенных законах его легко сломать, затравить, оболгать, загнать в ловушку, а после выставить безумцем. Но ведь сумасшедший дом – это расправа, замаскированная смертная казнь, даже хуже.
Однажды старшая дочь сказала мне:
– Ты не мужчина.
– Почему?– Я был искренне озадачен.
– А потому: ты – доверчивый. Это не мужское качество. Мне казалось, я ослышался. Ведь по существу это от того же гонения на честность. Но от кого я услышал! Вот тебе и общность крови…
Искренность, вера, честность…
Сколько же гонений на честность! И со всех сторон.
Нервная система профессионала-атлета, рискующего и здоровьем, и жизнью ради высоких результатов и побед, должна быть очень выносливой. Изнурительные (я бы назвал их беспощадными) нагрузки на многие годы, порой целую жизнь, опасные травмы, отказ от большинства земных радостей, выступления по многу часов в поединках без всякой жалости к себе, а также осознание того, что после ухода из спорта ты не будешь обеспечен,– все это требует исключительно крепкой нервной системы; иначе не устоять, не пройти и ничтожной части пути. Хотя борьба на уровне высочайших результатов и неизбежно закаляет. Атлет из первых – это прежде всего человек могучей нервной организации, поистине образец волевой надежности.
Большой спорт разрушал меня. Но он же, закалив, наделил определенной силой сопротивления, верой в себя, умением сносить боль и удары судьбы. Без его суровой школы вряд ли выдержал бы выпавшее на мою долю. Верил: людям нужна правда, которую я вплавляю в строки своих книг, и еще – любовь к жизни, неподатливость злу в самых невыносимых условиях существования.
Я был несгибаем до тех пор, пока с середины 70-х годов не решил писать в стол. Обстановка убедила: слово правды, даже просто честное воссоздание жизни в данных условиях исключено, более того – чревато опасными, а нередко роковыми последствиями.
Только одна книга "Особый район Китая" досталась таким перенапряжением, что вспомнить жутко! Одно непрерывное насилие… Лгать, приспосабливаться?.. Нет, я решил писать, наотрез отказываясь от любой условной правды, от уступки даже на четверть правды. А это дозволяла работа только в стол. Зарабатывал на хлеб поденным литературным трудом, ничем не проявляя себя как писатель. Свою главную работу, дело жизни я ломил в тайне от всех. Любая неосторожность – и тогда тюрьма или "психушка"…
Не сразу приспособился к подобной жизни и понес чудовищное нервное напряжение. Писать и не провалиться, настоящая жизнь в подполье: ведь никто не должен был догадываться об этой работе, истинном направлении моей жизни.
Следовало зарабатывать, а на заработанные средства писать без выходных и каких-либо перерывов на отдых. Так, с 1976 по 1985 год я вообще не выезжал из дома, опасаясь помимо прочего оставлять архив, то бишь крамольные рукописи. А как же горько, обидно нести образы своих книг, находки, законченные рукописи и никому об этом не говорить! И еще – сомнения в том, что вещи, возможно, не удаются, не удались: нельзя проверить их публикациями. От этого и вовсе было горько тянуть дни. Огромный пресс: ломятся плечи, но нести надо, иначе не могу…
Я убедился: человек способен приноровиться к самым невероятным физическим нагрузкам. Главное в срыве здоровья – нервная изношенность, нервная напряженность, удары по нервной системе.
Меня почти не печатали. С огромным трудом удавалось протаскивать книги о спорте – в другом качестве меня "тормозили" почти сразу, намертво.
Сколько же раз я прибегал к цитированию (даже в этой книге), чтобы защитить свои мысли, чтобы, прикрываясь цитатами, развить собственные идеи. Без цитат "основоположников" это было совершенно невозможно.
Это проклятое иносказание (им перенасыщены три первые части этой книги)! Через отвлеченные рассуждения, не имеющие прямой связи с повествованием, стараешься высказать свои мысли, убеждения. А это так утяжеляет рукопись! Разве это литература! Думаешь не о решении задач искусства, а о том, как бы протиснуть мысль, и насыщаешь действие множеством ненужных ходов. Но куда деваться? Надо было принимать игру и по таким правилам.
Я задыхался, пытаясь вырваться к читателю, и разбивался о незримую стену. Любая из моих немногочисленных книг – это мучительнейшее, надрывное протаскивание каждого слова. Я не испытывал радости: книга выходила оскопленной, изуродованной. Но даже эти книги-калеки издавались с великим трудом. Не будь "Особого района Китая" (эта книга несколько раз переиздавалась), жить мне последние одиннадцать лет было бы не на что, а впереди теснились годы тяжких болезней. Спортивную стипендию я потерял, едва прекратив выступления,– сразу, без промедления, да еще с постыднейшими оскорблениями, публичной процедурой поношения. За все сквитались…