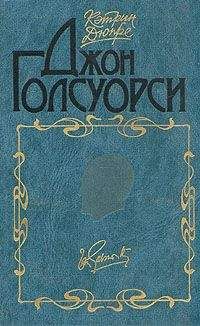Алексей Варламов - Андрей Платонов
Но и этот ручеек к концу 1947 года иссяк, из «Огонька» Платонов ушел, и вряд ли по доброй воле. Точно так же ушел он, а точнее, не смог войти в Детский театр, для которого написал в 1945–1946 годах неоконченную пьесу «Добрый Тит» и законченную пьесу о юном Пушкине «Ученик лицея», но ни та, ни другая поставлены не были, хотя по поводу последней Платонов обратился с письмом к А. А. Жданову с просьбой ее прочесть и дать возможность напечатать и поставить на сцене, «если с Вашей стороны не будет к тому возражений».
«Я обращаюсь к Вам потому, что некому решить этого вопроса, кроме Вас. Конечно, работники в редакции или в театре должны и могут решать такие вопросы, но в случаях со мной (когда я предлагаю им свои рукописи) эти вопросы почти всегда превращаются в практически неразрешимые — и мне либо возвращают рукописи без всякого суждения, либо рукописи вообще оставляются без ответа (они как бы не отвергаются и не принимаются)».
Неизвестно, было ли это письмо Ждановым прочитано, неизвестно даже, было ли оно отправлено (в платоновском архиве сохранился лишь черновик), но загубленная репутация писателя могла сыграть не последнюю роль в решительном идейном отказе Детского театра: «Несмотря на интересный материал, использованный Вами в произведении, и отдельные удачные сцены, в целом пьеса создает искаженный образ молодого Пушкина и его современников»[77].
Эта же репутация поставила барьер на его пути в советскую печать: в 1947–1949 годах новые произведения вновь очутившегося в команде прокаженных автора были без внятных разъяснений отвергнуты редакциями «Знамени», «Октября», «Смены», «Звезды», «Литературной газеты» и «Нового мира», а 24 февраля 1949 года в статье М. Шкерина «До конца разоблачить буржуазных эстетов-космополитов» Платонов был вновь упомянут в отрицательном контексте и назван упадочным писателем, причем речь шла о факте само собой разумеющемся и в доказательствах не нуждающемся.
На вопрос о том, почему, за что и с какой целью так жестоко и беспощадно наказали измученного, больного, обреченного на смерть и не причинившего никому зла фронтовика, современные исследователи отвечают по-разному. Самый изобретательный из платоноведов новейшего времени Евгений Александрович Яблоков в статье «Три семьи Иванова (О возможной подоплеке антиплатоновской кампании 1947 года)» высказал предположение, что за кампанией против платоновского рассказа «Семья Иванова» стоял Сталин, чей гнев Платонов сам сознательно спровоцировал, совершив «поступок преднамеренный и даже в известном смысле демонстративный», когда назвал свой рассказ так же, как называлась вызвавшая недовольство вождя пьеса покойного драматурга Александра Афиногенова, и тем самым заставил сатрапа «вспомнить и ту „персональную“ аллюзию, что лежала в основе ее фабулы… не случайным стал и разразившийся скандал: ожесточенная реакция на платоновский рассказ явилась своеобразным подтверждением того, что поступок оказался понят». Наряду с этой увлекательнейшей гипотезой, подразумевающей изощренную интертекстуальную дуэль двух титанов мысли, каковая, по нашему смиренному суждению, произошла лишь в воображении Евгения Александровича, предположим иную психологическую и историческую подоплеку событий, связанных с «Возвращением», — «Семьей Иванова».
Дело, как нам представляется, было не только в Платонове и в его вызывающе дегероизированном рассказе, хотя конечно же знакомый с автором уже почти двадцать лет Ермилов знал все уязвимые места и «историю болезни» этого писателя и ту аллергию, которая была на него в Кремле. Дело было также и в другом человеке — в Константине Михайловиче Симонове. Платонову, как уже говорилось, невероятно повезло, что он избежал участи стать третьим в компании с Ахматовой и Зощенко, что, нет сомнения, произошло бы, не забери он из «Звезды» вовремя свой рассказ. Однако, напечатавшись в симоновском «Новом мире» и невольно став неким знаком, новым камертоном журнальной политики, он попал из большого огня в немалое полымя.
История великой советской литературы свидетельствует о том, что двух главных редакторов ведущих литературных изданий «Нового мира» и «Литературной газеты» — Симонова и Ермилова — связывало взаимное чувство стойкой неприязни, отличавшее подлинных советских партийцев и особенно тех, кто имел отношение к изящным искусствам. Платонов со своей сомнительной репутацией, с клеймом, смыть которое не смогла даже война, снова, как и в истории противостояния Ермилова с «антипартийной группой» Лукача и журналом «Литературный критик» в 1937–1940 годах, оказался поводом не только для того, чтобы лишний раз потолковать о партийности в литературе и припрячь «беспринципный, безнравственный, объективистский и клеветнический рассказ» старого литературного врага, но и для того, чтобы обрушиться на выскочку Симонова, сделавшегося главным редактором «Нового мира» в тридцать лет, а тот факт, что Ермилов сам некогда возглавил «Красную новь» в двадцать восемь, ничего принципиально не менял, но скорее усиливал приступ ревности, зависти и ермиловской тоски по утраченному времени.
Второго февраля 1947 года Ермилов написал в «Правде»: «Не так давно вся наша общественность, партийно-советская печать единодушно осудила клеветнический рассказ А. Платонова „Семья Иванова“. <…> Но редакция „Нового мира“ до сих пор не сочла нужным сказать советской общественности, считает ли она ошибкой напечатание этого рассказа или же полагает, что была права, напечатав „Семью Иванова“. На днях вышла первая книжка „Нового мира“ за текущий год. В распоряжении редакции было целых три месяца для того, чтобы определить свое отношение к той критике, которой был подвергнут рассказ А. Платонова в печати. Мы нашли в первой книжке большую статью главного редактора журнала К. Симонова. И с удивлением мы обнаружили, что К. Симонов говорит в своей статье об очень многом, но ни слова не говорит о рассказе А. Платонова».
Симонов действительно не покаялся, позволил себе этот роскошный жест, а вернее, демонстративное отсутствие оного, хотя в мартовском номере «Нового мира» 1947 года это сделал за него старый платоновский знакомец, секретарь писательской парторганизации Л. М. Субоцкий, написавший в своих «Заметках о прозе 1946 года» о «глубоком неверии в организующую силу общественной морали» автора «Семьи Иванова» и обвинивший Платонова в том, что «в рассказе содержится открытая, с предельной ясностью выраженная моральная санкция на анархизм и распущенность во взаимоотношении полов, всепрощение человеческих грехов», а «образ сержанта Иванова отталкивает читателя вопиющей аморальностью». И тем не менее сей приговор огласил пусть и на страницах журнала, который сам себя высек, Лев Субоцкий, а его начальник изящно умыл руки, и это уже могло больно ранить Александра Фадеева, который, оказавшись в похожей ситуации летом 1931 года, публично от Платонова отрекся, заорав от страха на всю ивановскую «распни его, распни!».