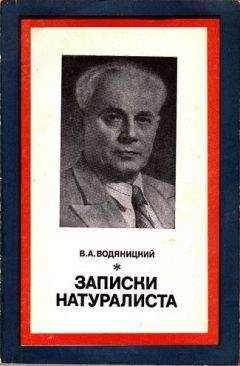Владимир Чернавин - Записки «вредителя». Побег из ГУЛАГа.
— Правда? — обеспокоено спросил меня муж. — Очень я страшный?
— Страшноват, но на бродягу похож больше, чем не разбойника. Скорее, пожалеют, чем испугаются.
— Значит, войду в дом, спрошу, как называется деревня, расскажу о нашем шалаше…
— Кто тебя поймет? — сомневался мальчик. — Ты финского не знаешь.
— Я все нарисую: реку, порубки, шалаш, тебя с мамой. Потом спрошу, где лавка, чтобы купить вам еды.
— На что купишь? У тебя денег нет. Отец взглянул вопросительно на меня.
— Вот мое кольцо. За это что-нибудь дадут.
— Теперь давай отметим в записной книжке, когда я выйду. Какой сегодня день?
Мы сосчитали не сразу. Последние дни, усталые, тревожные, сливались в памяти. Вышли восьмого августа. Шестнадцать дней идем. Сколько еще впереди? Сколько еще осталось жить на свете?
— Что можно мне взять с собой? — заторопился муж. — Сколько у нас сахару?
— Десять кусков, — сказала я, накинув три.
— Я возьму один.
— Нет, по крайней мере, два.
— Но я ведь иду к жилью — там и поем.
С такими же пререканиями я отрезала кусочек сала, в котором не могло быть и пятидесяти граммов.
Страшная была минута, когда отец, худой, бледный, с всклокоченной, выгоревшей бородой, обнимал израненными, обожженными руками сына.
— Сколько дней нам ждать? — спросила я, с трудом выговорив этот ужасный вопрос.
— Пять дней. Три туда, два назад: обратно пойду скорей.
— Буду ждать шесть. Потом что делать?
— Жечь костры на просеке, может, кто увидит. Я вернусь, прощайте.
Мы стояли и смотрели ему вслед, пока он не скрылся за деревьями.
Странно стало без него: пусто, тихо. Лес словно вырос, и все стало больше — деревья, река, а мы стали беспомощнее. То было три человека, а когда один ушел, осталось два жалких существа, беспомощных и беззащитных. На чем держалась теперь наша жизнь? Когда мы успокоились немного, мальчик грустно спросил:
— Что мы теперь делать будем, мама?
— Ляжем, выставим ноги на солнце, это скорее всего залечит наши раны. Когда папа вернется, нам еще придется идти. Потом надо привести все в порядок, нам долго придется тут жить.
— Сделаем так, чтобы было вроде дома.
Наши запасы — шесть кусков сахара, кусок сала, три — четыре ложки рису и чайная ложка соли — были тщательно завернуты, запакованы в клеенчатый мешок и припрятаны в угол, под ветки, чтобы, если в наше отсутствие заберется какой-нибудь зверек, они не погибли.
Несмотря на утро, мальчик скоро уснул. Солнце грело его израненные ноги, на пятке краснел еще не совсем заживший шрам от нарыва, гноились ранки от стертых водяных мозолей. Да, дальше его вести было нельзя.
Пришлось мне пойти собрать ягод, хотя я едва могла обуться, так болели и опухли ноги. В лесу, где только что прошел муж и скрылся неведомо куда, напала тоска. Мне слышались его голос, чей-то стон, непонятная далекая музыка.
— Мама! — жалобно позвал мальчик.
— Лежи спокойно. Я тут, близко, — ответила ему.
— Мне очень скучно.
— Пой!..
И он запел. Это было его главное утешение в последние грустные дни: он садился комочком, чтобы было теплее, и пел потихоньку все свои школьные песни, красноармейские, а теперь, с особенным чувством, пел мелодраматические, которые нищие, беспризорные мальчишки поют в поездах, обходя вагоны:
Умру я, умру,
Похоронят меня
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает.
И никто не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет…
Он пел, несомненно, не думая о значении слов, а я не могла удержаться от слез. «Милый, неужели придется похоронить тебя здесь? Если бы ты знал, как близко к правде то, что ты поешь…»
— Мама, я все спел.
Пришлось вернуться, чистить грибы, варить похлебку.
— Теперь мешай грибы и смотри за костром. Я пойду за дровами, а то ночью замерзнем.
Кругом лежало много верхушек и веток от срубленных деревьев, но они подгнили, и я знала теперь, как быстро такое топливо превращается в пепел, не оставляя даже углей. Я натаскала целые вороха веток, расцарапала себе руки, содрала кожу в кровь, но не могла успокоиться, пока не приволокла два ствола для основы костра. Когда я нашла эти бревна, мне показалось, что не сдвину их с места, потом протащила их два шага и упала. Но, в конце концов, они были в шалаше, хотя у меня руки и ноги дрожали от неимоверного усилия.
Теперь я поняла, что значит поддержать ночной костер. Сначала ветки занимаются быстро, далеко обдает жаром, и засыпаешь, разморенный теплом. Потом огонь меркнет, ночь заливает стужей, а сил нет проснуться и встать с нагретого места. Наконец, заставляешь себя открыть глаза. Темно. Небо ясное, морозное, ярко светят звезды. От костра остались только две большие черные головни, тлеющие угли засыпаны пеплом и дымят едким белым дымом. Надо скорей подкладывать дров, а ветки переплелись так, что их не разобрать, не расцепить. Положишь в костер — не раздуть огня. Я чувствовала себя очень несчастной, но не смела капитулировать перед своей беспомощностью, потому что мальчик сжался от холода, как больной зверек.
Еще раз! — требовала я сама у себя. Наломать тонких сучков, подгрести под них угли, сверху положить веток посуше; теперь — дуть. Я дула, дула, белый пепел разлетался хлопьями, потом начинал валить горький густой дым; надо было дуть еще, пока сквозь него не прорвутся два-три язычка бледного оранжевого пламени, они слизывали дым, и костер вспыхивал обжигающим пламенем.
И так всю ночь, примерно каждые полчаса.
Как хотелось утра, солнца, ровного тепла, а пока, под светом луны, все блистало колючим серебром, — выпал первый морозный иней.
Где-то муж теперь?.. Костер у него, наверно, потух, и он дрожит, усевшись под елку или в яму под камень, чтобы спастись от ветра. Он, конечно, не ел, потому что грибы варить долго. Только бы сердце выдержало.
Утро началось у нас поздно. Первая мысль была об отце.
Так шли дни — второй, третий, четвертый, — как первый. Светлого времени только-только хватало, чтобы добыть пищи — грибов и ягод — и натаскать дров. Вечером, после ужина, мы разводили костер, садились рядом, накрывались одним пальто и беседовали.
Когда истощался разговор, мы начинали петь вполголоса все, что помнили. Чтобы успокоить и его, и себя, я напевала ему: «Уж вечер, облаков померкнули края»… — и под ласковую, тихую колыбельную из «Садко» он засыпал, а я принималась за свое ночное дело: поддерживать упрямый, злой огонь и думать свои думы: «Зачем отпустила? Разве можно было расставаться? Он едва шел, надорвет себе сердце и умрет один в лесу. Нам никогда не найти его, не увидать. Завтра пойдут шестые сутки. Не вернется после полудня — надо идти, чтобы попытаться спасти мальчика. Куда идти? Как мы пойдем, зная, что отец погиб?»