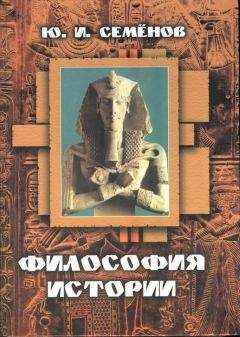Робин Коллингвуд - Идея истории
Как показывает анализ контекста, Коллингвуд старается уберечь концепцию исторического понимания от двух опасностей сразу: от психологического субъективизма прагматистов, с одной стороны, и от «логического атомизма» неопозитивистов и неореалистов, с которыми он постоянно ведет полемику в «Автобиографии», — с другой. И все же эта борьба на два фронта не увенчалась настоящим успехом: определенный крен в сторону субъективизма, как мы увидим, все-таки присущ учению Коллингвуда. Но сначала закончим экспозицию его концепции.
Никакая мысль не может быть адекватно понята в «вакууме», т. е. вообще без всякого контекста, как нечто совершенно объективное, изолированное от процесса мышления, в ходе которого она (эта мысль) только и возникает. Это, собственно говоря, старинный гегелевский тезис — лейтмотив Предисловия к «Феноменологии духа», своеобразной увертюре к его грандиозной философской симфонии. Из этого лейтмотива Коллингвуд извлекает кое-какие новые звучания, нужные ему для опровержения платформы «логического атомизма». Мысль не есть факт или событие, которое мы могли бы фиксировать как определенный элемент внешней среды. Чтобы могло возникнуть настоящее понимание, чужая мысль должна укорениться в моем собственном сознании как элемент моего собственного опыта, как момент моего акта мышления. Вот почему Коллингвуд и говорит о «про-игрывании прошлого опыта», а не о простом пассивном отпечатке, механическом воспроизведении некоего содержания. «Про-игрывание» означает, стало быть, мою способность, если можно так выразиться, «встать вровень» с мыслью, которую я стараюсь понять. Поэтому «историческое исследование показывает самому историку силы его собственного ума. Так как все, что он может познать исторически, ограничивается теми мыслями, которые он в состоянии заново для себя перемыслить, то самый факт появления этого знания показывает ему, что его ум способен мыслить теми способами, которые для этого нужны. И наоборот, всякий раз, когда он обнаруживает, что некоторые исторические проблемы непонятны, он открывает ограниченность своего собственного ума; он открывает, что есть категории, в которых он не может или больше не может, или еще не может мыслить»[176]. Так история оказывается в конечном счете «самопознанием разума» и принимает на себя функции традиционной «философии духа».
Описав полный круг, мы возвращаемся к исходному тезису Коллингвуда: «Вся история есть история мысли»,— но теперь уже мы знаем не только тезис, но и его обоснование в самых основных звеньях аргументации, то, что Коллингвуд называет «контекстом». Историческое сознание, историческое знание (наука) и исторический процесс означают для него в сущности одно и то же, только с различными смысловыми акцентами. Исторический процесс есть то, и только то, что может быть доступно историческому познанию, а познанию может быть доступно только сознание, мышление (для Коллингвуда это синонимы). Основной идеалистический тезис не постулируется догматически, но выдвигается как результат концепции исторического понимания. Отождествление исторического сознания с историческим бытием — необходимое, согласно Коллингвуду, условие возможности самого исторического знания. И наоборот, всякий подлинный ученый-историк обязан признать, что его единственным предметом исследования является «мысль», т. е. целесообразная деятельность людей в самых разнообразных формах, как это разъясняется в пятом параграфе «Эпилегомен». История изучает деяния людей, но не всякие действия являются предметом исторического познания, а только целесообразные: «особенность этих действий в том, что они обязательно осуществляются „с целью“, что обязательно должна присутствовать цель в качестве основы, на которой воздвигается вся структура действия и которой она должна соответствовать»[177]. Это уже не звучит так дико по-гегелевски («дико», разумеется, для слуха профессионального историка), как первоначальный тезис насчет «истории мысли» в его нерасшифрованном виде. В историческом познании без анализа целесообразной деятельности обойтись, конечно, нельзя. Вопрос только в том, можно ли весь исторический процесс свести к ней, достаточно ли одного знания человеческих целей, чтобы уловить связь и смысл исторических событий.
Идеализм Коллингвуда в понимании исторического процесса сразу выступает на поверхность, как только он переходит к обсуждению проблемы свободы (шестой параграф «Эпилегомен»). Для него история всегда была, есть и будет ареной человеческой свободы, исключающей объективную необходимость в точном смысле этого слова. И этот его тезис не следует понимать примитивно: свобода не синоним произвола и потому вовсе не исключает влияния исторических обстоятельств. Напротив, чем разумнее действует человек, тем лучше он учитывает требования ситуации. И Коллингвуд находит сильные слова для разъяснения своей позиции. «Для человека, собравшегося действовать, ситуация — хозяин, оракул и бог. И если он позволит себе пренебречь ситуацией, ситуация не станет пренебрегать им. Она не из тех богов, которые оставляют богохульство безнаказанным»[178]. Если взять это высказывание в его буквальном значении, то с ним вполне можно было бы согласиться, но уже на следующей странице выясняется, что «твердые факты ситуации» — образ мыслей, интерпретация обстоятельств действующим лицом. Такая точка зрения принципиально не позволяет проводить различие между объективными и субъективными факторами исторической ситуации, а если такое различие все же предусматривается, хотя бы терминологически, то оно всецело остается в рамках исторического сознания той или иной эпохи. Никто не спорит, что люди принимают решения, руководствуясь собственными оценками событий, а не позднейшим объективным знанием, ошибки, иллюзии и предрассудки органически вплетаются в ткань истории и вносят свою лепту в формирование облика прошлого. И все же сквозь все зигзаги и случайности пробивает себе дорогу историческая необходимость, познание которой и дает историку «нить Ариадны», позволяющую ориентироваться в безбрежном океане частных фактов и единичных явлений.
Этого-то и не хочет признать Коллингвуд, который всякое представление о закономерности автоматически зачисляет по ведомству «натурализма». Но каким образом тогда можно теоретически обосновать преемственность исторических эпох, единство исторического мира, которое (единство) он сам объявил необходимой предпосылкой исторического знания (см. параграф «Историческое воображение»)? У Гегеля события нанизывались на единый стержень абсолютной идеи, развивавшейся во времени и последовательно воплощавшейся в «дух народа», то одного, то другого в зависимости от этапа исторического развития. Один народ передавал эстафету прогресса другому, так шествовал в истории «мировой дух», пока не достиг наконец полного осуществления принципа свободы и не стал «абсолютным». Коллингвуд довольно рано распрощался с таким представлением: «мировой дух — просто мифология»[179]. Действительно, для рационалистической философии XX в. гегелевский взгляд был совсем уже неприемлем из-за своих явных теологических аллюзий. Но что останется от мировой истории, если отказаться от постулата мирового сознания — явно ненаучного допущения, и все же продолжать считать, что историческое сознание и историческое бытие одно и то же?