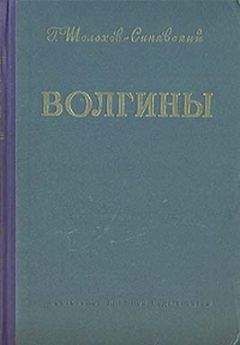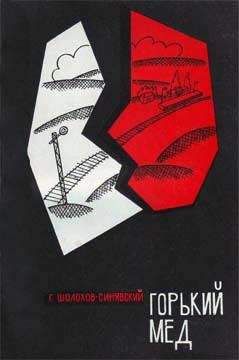Георгий Шолохов-Синявский - Отец
— Улетела, стерва! Приблудница! Ну, туда ей и дорога, бездомнице.
Возвращались мы на пасеку в подавленном настроении. В тот же день, сев на коня, отец объехал степь верст на двадцать в окружности, но следов роя нигде не обнаружил: рой исчез бесследно, словно испарился.
Брачный полет
Наутро матки в старой колоде как будто угомонились, рои не вылетали, и я потихоньку улизнул с пасеки. Дёмка с утра, как всегда, пас хозяйских годовалых телят недалеко от сада. Бычки и молоденькие телушки, с уже заметно отросшими рожками, мирно пощипывали у опушки траву.
Сам Дёмка, с перекинутым через плечо ременным кнутом, сидел на бугорке и, по обыкновению, вырезывал из куска вербы какую-то пока непонятную мне штуковину, У Дёмки был замечательный складной ножик, чему я по-детски остро завидовал.
Дёмка презрительно взглянул на меня: ну, конечно, он считал меня отъявленным изменником и трусом, с которым не следовало и разговаривать. Не совсем уверенно я рассказал о бегстве роя.
Дёмка фыркнул:
— Хм… рой! Вчера я опять видал желтобрюха. Вот это да-а! Он шел колесом, а потом так и шмыгнул в нору.
— Отчего же ты не убил его? — наивно спросил я.
— Да-а, убьешь! Мы же уговорились вместе. Одному не с руки. Одному надо гнать его, а другому стоять у норы с кийком.
Теперь уже я мог усомниться в мужестве товарища, но промолчал.
Дёмка все еще недоверчиво смотрел на меня своими зеленовато-желтыми глазами. На его тощем, темном от загара, как закоптелый чугунок, лице конопины слились в одну сплошную грязновато-серую массу. Босые ноги были также черны от пыли и покрыты рубцами и ссадинами. Я уже знал: Дёмка был сирота и служил у богатого тавричанина пастушонком за кусок хлеба и худую одежонку. Дёмка почему-то считал меня чуть ли не барчуком и белоручкой. Сын панского садовника и пчеловода — это, по мнению батрацкой мелкоты, была куда более значительная социальная ступень.
Я вспомнил, что отец строго наказал мне утром не отлучаться с пасеки, и, заверив Дёмку, что обязательно приду к нему после обеда, как раз в то время когда полоз после дневной охоты возвращается в свою нору, бегом пустился в сад.
Я выбежал на главную аллею и услыхал сдавленный протяжный стон. Почему-то в этом, похожем на громкое мычание коровы, стоне я сразу узнал голос отца. Стон доносился со стороны пасеки, и я кинулся во всю прыть к нашей пчелиной поляне. Сердце мое, чуя беду, бешено колотилось. Я и теперь удивляюсь, как я, маленький мальчишка, мог, не зная еще, что случилось, так остро почувствовать несчастье.
Помню, я, еще не видя отца и того, что стряслось с ним, бежал и плакал, крича:
— Папка! Папочка!
Я увидел его под старой жерделой с наполовину усохшими черными коленчатыми гильями. Он лежал, странно вытянувшись, и не стонал, а ревел, словно стараясь втянуть в себя воздух всего сада. Рядом с ним валялись сломанная гилка, опрокинутый старчаковый улей с отбитой крышкой и роевня, вокруг которой с тревожным жужжанием кружились пчелы.
Не помня себя от ужаса и жалости, я подбежал к отцу. Лицо его было серым, как старая холстина лежавшей рядом роевни. Он зевал, грудь его странно высоко поднималась, а из-под задравшейся кверху рубахи виднелся впалый, покрытый испариной живот. Глаза отца, выпученные, просящие и, как мне показалось, полные жалости ко мне, неподвижно уставились на меня.
Он все еще хотел сказать что-то и не мог, а только стонал. Наконец я уловил слова:
— Мать позови… мать…
Я заплакал и побежал к хутору. До нашей мазанки было не менее версты, но я, словно на крыльях, пролетел это расстояние. Узнав из моих прерываемых плачем слов, что отец убился, упав с дерева, мать побежала со мной в сад. Волосы ее развевались на ветру, платок она где-то потеряла.
— Боже мой… Матерь-владычица… С кем же я теперь останусь, головушка моя грешная, — слышал я за собой бессвязное бормотание.
Эти слова, полные всегдашнего страха за свою судьбу и судьбу детей, я не раз слышал из уст матери — в них отражалась беззащитность, беспомощность перед пугающим призраком вдовства и сиротства детей. В самом деле, после внезапной кончины отца, куда пошла бы мать, слабая женщина, чужая среди такого же подневольного люда? В лучшем случае она могла стать поденщицей у богатых украинцев-отрубщиков, в худшем — нищенкой с маленьким сиротой на руках.
Я впервые незрелым своим умишком остро почуял эту опасность и понял, что отец, здоровый, мужественный человек, наша единственная опора, не всесилен и не бессмертен, как сказочный богатырь, а такой же беззащитный, как и все, — он может умереть от всякой случайности, и никакая живая вода не спасет его.
Надо беречь отца, хранить от всех зол и напастей — эта новая мысль родилась во мне в ту минуту, когда я увидел отца беспомощно лежащим под старой жерделой. Почти животное чувство страха за его жизнь стало зреть во мне.
Когда мы прибежали на пасеку, отец, все еще бледный, как лист выцветшей на солнце вощины, сидел на садовой скамейке, согнувшись и держась обеими руками за левый бок. Мать со слезами и упреками кинулась к нему, но отец как будто не обратил на ее слезы внимания, обнял меня и крепко прижал к своей груди, пахнущей донником и воском. Голос его звучал очень слабо:
— Испугался, сынок? Ничего. Все обошлось. И плакать было не нужно. — Переведя дыхание, пояснил: — Рой-то опять из той колоды вышел. Это уже третий — разбить ее мало. Ну и примостился он на самой верхушке на сухой гилке. Полез я за ним, уже вобрал почти весь в роевню, а гилка и подломилась. Шарахнулся я с высоты чуть ли не семи сажен да боком и угодил на дуплянку. Видишь, вон? Ахнулся так, что вершковая крышка отскочила вместе с гвоздями. Ты уж, сынок, собери рой и посади вечером в улей…
Отец закрыл глаза, покачнулся: ему снова стало худо.
Мы с матерью уложили его тут же на скамейке, подмостив под бок свежей мягкой травы. Потом я взял роевню — матка была там, и рой уже собрался вокруг нее. А вечером без чьей бы то ни было помощи я храбро пересадил рой в улей, загоняя дымком из дымаря особенно непокорных пчел. И, удивительно, ни одна не укусила меня, точно каждая чуяла, что имеет дело не с беспомощным мальчишкой, пугающимся одного пчелиного жужжания, а с серьезным учеником многоопытного учителя.
Отец пролежал в постели месяц, потом поехал в город к врачу. Врач обнаружил перелом трех ребер, распухшие почки и селезенку. Почти год отец ходил кособочась, опираясь на палку и жалуясь на грызущую боль в левом боку и пояснице, пил лекарства, отвар каких-то степных трав. Он похудел, пожелтел, согнулся и часто по ночам меня будили его стоны и кашель. Мать скорбно шепталась с соседками, и до моего слуха донеслось однажды незнакомое пугающее слово «чахотка».