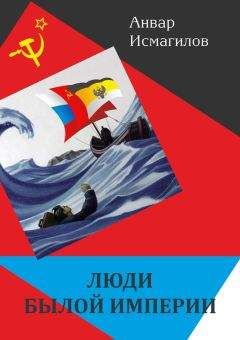Виктор Меркушев - Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм
Рифмушкину
Рифмушкин говорит:
«Я славою не сыт;
Собранье полное стихов моих представлю,
По смерти я себя превозносить заставлю,
Изданье полное – прямой венец труда!
Нет нужды в справке,
Остаться я хочу, остаться навсегда…»
Приятель возразил: «У Глазунова в лавке».
Заячьи уши
Толкнул когда-то льва рогами зверь;
Царь лев прогневался: сей миг, сей час, теперь
Чтоб в царстве у меня рогов ни крошки боле!
Пришёл о том указ
В приказ.
Рогатые спешат оттоле: –
Коровы и быки, бараны и слоны,
И рогоносцы все, сколь было, сосланы. –
За ними заяц прыг – ему в глаза лисица,
А ты куда спешишь, комола заяц птица?
Боюсь прищепок я, боюсь судей, судов
И их крючков. –
Опомнись куманёк, как счесть рогами уши? –
Я робок, а притом подьяческие души
Легко произведут в оленьи их рога;
Мне жизнь всемерно дорога;
И так в запас – прощай. – Простился
И долго он домой не возвратился.
Осёл кумир
Везли чай в Дельф кумира,
Кумир без ног, кумир, как барин, сел.
Кумира на плечи поднял осёл
И божество пространна мира
Так точно, как котлы медяны потащил
И не спешил;
Однако же в пути красавицы, герои
Бегут перед ослом кумиру в честь,
Разумницы, глупцы, людей различны строи
Плетут бесстыдно лесть
И просят, что ни есть.
Кумира мудрецы в душе не величали,
Но то, что он болван, народу не кричали.
Осёл
Услыша в день раз сто: ты бог, ты славен,
Ты мудр и милосерд, никто тебе неравен,
Подумал впрямь, что мир в его руках висел
И что на небеса он сел,
И ну просителям оказывать приязни
И казни,
И бредит всякой час, так истинно: я бог –
Я добр, но строг;
Однако же ослу быть запретили богом,
Ударя много раз тяжёлою рукой,
Глупцу в киченье многом
Нет пользы никакой.
Летучая мышь
Мышь некогда была,
Летучая, на все смышлёные дела –
Зверок и птица!
Летала, как синица,
Как мышь – ходить легка.
Когда проворными ногами
Бежит кот за мышами;
На воздух даст она стречка,
И смело говорит: я не боюся кошки.
Как кошка ни прытка,
Крылатому везде окошки,
И если коршун злой,
Вияся в воздухе стрелой,
Над нею оказать своё захочет барство,
Нырнёт в мышачье царство;
Покажет лапочки, почванится носком –
Так воздух и земля ей постоялый дом:
Везде летуча мышь счастлива!
Пусть скажут мне: таков весь свет;
По мне, душа не очень в том красива,
Что так живёт.
Андрей Николаевич Муравьёв
Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.
А. Н. Муравьёв. Портрет, авторство которого приписывается М. Ю. Лермонтову
Начинающий литератор Андрей Муравьёв разбил в доме Зинаиды Волконской статую Аполлона. По неловкости, по неосторожности – по чистой случайности… Но Пушкин не мог спокойно пройти мимо такого события, подарив «Митрофану», читай глупому, недалёкому человеку, водевильный экспромт. Муравьёв не разделил весёлости гения и ответил ему довольно-таки грубо:
Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.
Однако Пушкин, в отличие от «Митрофа-на», оценил и юмор, и слог, оставив послание Муравьёва без последствий. Хотя, можно предположить, что на «обезьяну» Пушкин вообще не обижался. Ведь ещё в своём лицейском стихотворении «Мой портрет» Пушкин, свидетельствуя о собственной внешности, пишет: «Сущий бес и обезьянья рожа». Эту «обезьянью рожу» читающая и нечитающая публика весело подхватила, и можно представить, что такое определение внешности поэта было «в ходу» у его современников. Известна его пикировка с Дантесом, когда «обезьяна» выпрыгнула и с той и с другой стороны. Дантес всегда носил кольцо с изображением Генриха Пятого, сына герцога Беррийского. Пушкин, который не упускал возможности задеть самодовольного бездельника, прилюдно обвинил его в том, что он на своей руке носит портрет обезьяны. Но Дантес не растерялся и ответствовал поэту: «Посмотрите на изображение на моём кольце. Разве похоже оно на господина Пушкина?»
Дуэли тогда не случилось, и вообще, этот разговор быстро замяли.
Но вернёмся же опять к Муравьёву.
Нам остаётся искренне порадоваться, что такое близкое «знакомство» со скульптурным искусством не прошло для Андрея Николаевича даром: потерю московского Аполлона он решил восполнить приобретением изваяний древнеегипетских Сфинксов, которые благодаря его стараниям оказались на петербургской набережной в 1834 году. Приобретение так удачно вписалось в городскую среду, что нам, петербуржцам, не остаётся ничего иного, как только благодарить Андрея Николаевича за его тогдашнюю неловкость. Не случись Аполлона, не приплыли бы к невским берегам и египетские Сфинксы.
Надо сказать, что человеком Муравьёв был обидчивым и мнительным и оскорблялся от любого замечания в свой адрес. Вернувшись из служебной поездки по Украине и Крыму, он издаёт стихотворный сборник «Таврида», на успех которого очень рассчитывал. Тем более, что интерес к его стихотворениям проявил сам Пушкин, настойчиво предлагая Андрею Николаевичу что-либо почитать из написанного. Неизвестно, чего добивался от Муравьёва поэт – то ли убедиться, что его крымский цикл основан на совершенно иных впечатлениях, нежели у Муравьёва, то ли убедиться в справедливости светской болтовни, что молодой поэт один из немногих, кто решительно избежал литературного влияния Пушкина. Как бы то ни было, в лице своего первого критика – Баратынского, Муравьёв одобрения не получил. Андрей Николаевич расценил его рецензию в «Московском телеграфе» как «жестокий удар при самом начале литературного поприща».
Москва, вообще, встретила начинающего поэта холодно, да и в семье Муравьёва не одобряли его литературных увлечений. Однако ни военная служба, ни дипломатическая карьера, к которой он обратился, оставив мундир драгунского офицера, не привлекали молодого человека. Выхлопотав себе отпуск, Андрей Николаевич отправляется путешествовать «по святым местам», посетив в вояже Египет, Кипр и Палестину.
Обо всём увиденном Муравьёв впоследствии напишет в своей книге «Путешествие ко Святым местам в 1830 году», изданной в Петербурге, куда переезжает после своего длительного паломничества. Книга имела определённый успех, по ней даже на сцене Александринского театра была поставлена трагедия, которая, правда, ничего не принесла автору, кроме разочарования.