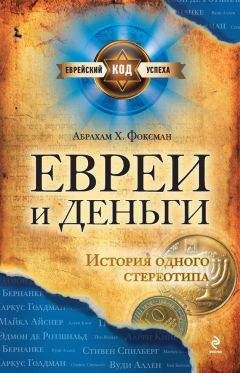Мария Спендиарова - Спендиаров
В те годы Ялта была средоточием российских литературных сил. Уединенно жил в Гаспре Лев Николаевич Толстой. Прогуливаясь по ялтинской набережной, можно было запросто встретить Андреева, Бунина, Серафимовича. Ялтинцам примелькалась желтая панама Куприна, и даже фигура Чехова, зябко кутающегося в пальто, казалась им привычной и обыденной.
В свои последующие приезды в Ялту и Алексей Максимович Горький уже не приковывал внимания прохожих, но зимой 1901/02 года, когда писатель находился под гласным надзором полиции, весть о его пребывании в Олеизе взбудоражила любопытство многих. «Меня тоже заинтересовал приезд Горького», — пишет Александр Афанасьевич в своих воспоминаниях.
Было начало февраля, когда Спендиаров и участник любительского кружка доктор Алексин отправились на извозчике в Олеиз.
Алексей Максимович жил в деревянной даче, окруженной миндалевой рощей. Визитеров ввели в приемную, посреди которой стоял стол, уставленный винами и закусками.
Кто-то спорил, кто-то мечтательно насвистывал мотив из «Садко», кто-то, аккомпанируя себе на гуслях, монотонно тянул: «Солнце всходит и заходит…» Освоившись, Александр Афанасьевич разглядел сквозь сутолоку и табачный дым грубую поддевку Леонида Андреева, гусли в руках рядившегося под Горького Скитальца и благообразную голову Бунина с косым пробором и острой бородкой.
Гости то и дело поглядывали на дверь кабинета, ожидая выхода хозяина.
Спендиаров поднялся с места: откидывая на ходу гриву прямых волос, в приемную-столовую вошел Максим Горький.
Он пригласил композитора в свою рабочую комнату. Спендиаров подошел к окну. За голыми ветвями миндалевых деревьев голубело море. «Я не люблю моря в таком спокойном состоянии, — услышал он за собой окающую речь. — Бурное море мне гораздо больше по душе».
Заговорили о музыке, о музыкальной деятельности Спендиарова. Внимание Горького к каждому слову гостя, его «всепокоряющая простота, деликатность и нежность в обращении» невольно расположили Спендиарова к откровенности. Когда он кончил, Алексей Максимович задумчиво сказал:
— Я стихов вообще не пишу. Лучше Пушкина не напишешь, а написать хуже — это значит оскорбить память Пушкина. Пушкин за всех поэтов русских вперед на двести лет написал! Но недавно, — на его лице появилась виноватая улыбка, — я согрешил и написал песнь в стихах по валашской легенде — «Рыбак и фея». Если найдете интересным, напишите музыку.
«Спендиаров очень скоро принес нам готовую балладу, — вспоминала Екатерина Павловна Пешкова. — Алексей Максимович даже удивился, что так быстро и в то же время так удачно он написал. В другой раз он приехал к нам с доктором Алексиным, который спел балладу под его аккомпанемент».
«Крымские эскизы»
Баллада «Рыбак и фея» была исполнена впервые в Ялте, в концерте А.Б. Гольденвейзера, а затем включена в программу петербургского симфонического концерта[38].
Тепло встреченное публикой, произведение это было весьма равнодушно принято петербургской прессой. Язвительный тон, принятый по отношению к Александру Афанасьевичу после первого же исполнения «Концертной увертюры», преследовал композитора и в дальнейшем.
Трудно представить себе, в какое отчаяние повергла бы начинающего композитора эта постоянная дезориентация, если бы его талант не был признан петербургскими коллегами. А признание это особенно возросло после исполнения в Петербурге сюиты «Крымские эскизы».
Посвященные памяти Ивана Константиновича Айвазовского, «Крымские эскизы» явились результатом длительного творческого процесса. Начался он с младенческой любви будущего композитора к матери и к связанным с ее образом крымским напевам. Проводя детство в Крыму, Спендиаров так привык к этим напевам, что не обращал на них специального внимания, относясь к ним, как к окружающей его природе: к ароматному ветру, напоенному запахом чебреца и полыни, к причудливому рисунку скал, окаймляющих тихие бухты…
Надо было прожить несколько лет на севере и вдоволь наслушаться европейских звучаний, чтобы почувствовать свое прирожденное, органическое тяготение к восточной музыке.
Живой интерес к творчеству Генария Корганова, а затем Николая Тиграняна, на петербургском концерте которого он впервые познакомился с мелодикой и ритмикой армянских плясок, поощрение со стороны Римского-Корсакова и дружба с Айвазовским помогли ему осознать это скрытое тяготение.
В Ялте композитор окружил себя народными музыкантами. Едва всходило солнце, как черные барашковые шапки и красные пояса приглашенных им татар уже маячили в его саду среди лохматых пальм и темных зарослей лавров. Александр Афанасьевич выходил на террасу, и фоном утренней жизни дома становилась народная музыка, то тягуче-задумчивая, то острая и бойкая.
Одевая ее мысленно в наряд прозрачных гармоний, расцвечивая яркими оркестровыми красками, композитор спешил в кабинет, отмахиваясь на ходу от докучливых управляющих, ожидавших его в гостиной с кипой деловых бумаг.
Наступило лето, и Спендиаров стал часто захаживать в городской сад. Он вплотную подходил к эстраде, где репетировал сезонный оркестр. «Александр Афанасьевич прислушивался к игре каждого оркестранта в отдельности, — рассказывал петербургский виолончелист И.О. Брик, игравший в Ялте в сезон 1903 года. — Вероятно, он хотел представить себе в исполнении нашего оркестра звучание создаваемых им «Эскизов». Требователен он был к себе до невероятности! Репетируя с нами «Крымские эскизы», он еще многое переделывал в манускрипте».
Первое исполнение сюиты «Крымские эскизы» состоялось 4 сентября под управлением автора. Концерт давался в Ялте, в городском саду. По случаю бенефиса оркестрантов эстрада была украшена гирляндами из зелени и разноцветных лампочек.
Как всегда бывало на бенефисах, у эстрады толпилась курортная публика. Обычно во время концертов она без стеснения занималась или «почтой», или досужими разговорами. Но то ли аромат крымской песни покорил ее, то ли жар вдохновения, с которым молодой автор дирижировал близкой ему музыкой, только, как вспоминают очевидцы, в этот раз все внимание слушателей было обращено на эстраду.
Прекратилось шуршание гравия под ногами гуляющих. Прохожие останавливались и молча, взволнованно слушали.
В том же году Спендиаров исполнил свое новое сочинение в Петербурге. «Едва зазвучала «Плясовая», как нам показалось, что крымское солнце засияло над нами! — воскликнул Александр Вячеславович Оссовский, вспоминая о первом петербургском выступлении своего друга. — После концерта мы собрались у Глазуновых. Были Римский-Корсаков, Лядов, братья Блуменфельд, Черепнин, Александр Афанасьевич и я. Ужин, как всегда у Глазуновых, — море разливанное! Оживленнейший, товарищеский ужин. Пошли тосты. По традиции, сначала за Римского-Корсакова. Потом, постучав по бокалу, чтобы призвать всех к особому вниманию, взял слово Александр Константинович Глазунов. Начал он, как всегда, издалека, потом заговорил о молодом композиторе, принявшем сегодня музыкальное крещение, — ведь в этот день Александр Афанасьевич впервые выступил перед петербургской публикой. Все зааплодировали и потянулись с бокалами к порозовевшему, улыбающемуся Александру Афанасьевичу. Глазунов обошел весь стол и, подойдя к своему младшему коллеге, обратился к нему: «Мы все здесь на «ты», Александр Афанасьевич, давайте-ка выпьем на брудершафт!» Помню, Александр Афанасьевич всполошился, замахал руками: «Это невозможно, Александр Константинович, решительно невозможно!» Но Александр Константинович и слышать не хотел его возражений. Композиторы выпили и обнялись.