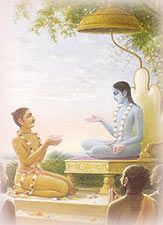Вера Фигнер - Запечатленный труд (Том 2)
К сожалению, в то время я совсем не думала об этом и так мало считалась с настроением других, что чувствовала раздражение против несогласных. Их сопротивление я считала слабостью и негодовала, что чувство самосохранения говорит в них. «Они не хотят рисковать жизнью, — думала я, — а рисковать надо, рисковать стоит».
Последствия нашего поведения были печальны, в особенности для меня.
Как только голодовка была нами начата, все раньше несогласные тотчас присоединились к ней. Оказалось, втайне от нас они решили сопротивляться, пока можно, но, если мы начнем, пристать к нам[34].
Так объединилась почти вся тюрьма. Воздержались: Лопатин, который никогда не участвовал в наших протестах и принципиально отказывался от каких бы то ни было общих выступлений, так как, по его мнению, сговор в тюрьме невозможен; Антонов, потому что он стоял только за активные протесты; Ашенбреннер, который откровенно признался, что боится не выдержать до конца; и, наконец, Василий Иванов и Манучаров не одобряли голодовки и не примкнули к ней открыто: и тот и другой для вида брали пищу, но выбрасывали ее в клозет. Они боялись, что не выдержат, отступят и открытым отступлением повредят общему делу.
В отделении, где были я, Юрковский, Попов, Мартынов и Стародворский, все лежали на койках и между собой почти не разговаривали. Но в отделении, где была Людмила Александровна, шли постоянные расспросы, кто как себя чувствует. Через несколько дней у одного кружилась голова; другой не мог стоять на ногах. У Буцинского случилась рвота с кровью. И как ни нелепо, к нему пригласили тюремного врача Нарышкина. Тот совершенно резонно заявил, что странно лечить людей, которые морят себя голодом, и оказать помощь отказался.
Случай с Буцинским произошел на девятый день голодовки. После этого кто-то из его соседей предложил прекратить ее, и большинством голосов всех, кто сидел на северо-восточной стороне тюрьмы, предложение было принято. Мне сообщил об этом Попов и прибавил, что ввиду решения большинства он дальше голодать не будет.
Мартынов, человек здоровый и сильный, не выдержал с самого начала и уже на третий день стал есть. Я в своей строгости прекратила с ним всякие отношения.
Стародворский, который говорил, что умрет, как Сенека, вскрывший себе артерию, сделал неловкую попытку пустить себе кровь; жандармы заметили и увели его в старую тюрьму, где под влиянием охватившего его, как он говорил, желания жить он стал есть.
Остались я и Юрковский.
Последний простучал мне, что поступит так, как поступлю я. А я ответила, что привыкла доводить дело до конца, решение большинства не считаю для себя обязательным и буду продолжать протест.
Отступление товарищей для меня было тяжелым ударом. Конечно, чувство одиночества, брошенности само по себе было горько, но было нечто гораздо более глубоко затрагивающее. Пять лет тому назад я вступила в эту тюрьму с принесенным с воли идеальным понятием о революционере вообще и о революционном коллективе в частности. О революционере, который никогда не отступает, я судила по Желябову, Фроленко и другим членам организации; о революционном коллективе — по сплоченности и солидарности Исполнительного комитета «Народной воли». Теперь этим представлениям пришел конец. Произошел опыт, и он клонил меня к земле. Здесь все были революционеры. И они говорили слова, выражали готовность умереть. Говорили о жертвах, о доведении протеста до конца.
Что же это было? Искренне говорили они или неискренне? Сами обманывались или других хотели обмануть? Но кого же? Начальство, которое через жандармов знало о содержании всех разговоров, происходивших громко через трубы, и эти разговоры были словесной демонстрацией с целью подействовать на тюремщиков.
Неужели то были пустые угрозы и говорившие хорошо знали, что никаких смертей не будет и в этом протесте никто своей жизнью не рискует? Почему же в таком случае товарищи не предупредили меня?
Да, если это действительно была комедия, то она недостойна революционера: у него слово не должно бросаться даром даже для врагов.
Если же слова и намерения были серьезны, то отступление есть слабость, отсутствие мужества для выполнения того, что собирались выполнить. А ведь мои товарищи — сильные люди, самые сильные, какие только есть в России. Иначе они не действовали бы так, как действовали на свободе, когда не были в этой каменной могиле. Да, они сильные люди и должны быть сильными.
И, однако, они говорили и не сделали.
Это было жгучее разочарование и переполняло меня необузданным гневом. Особенно возмущало меня то, что инициатива общего прекращения голодовки принадлежала тем, кто первоначально был против нее. Несправедливые темные подозрения приходили мне в голову, и, казалось, я ненавижу всех. У меня оставались в жизни только они, эти товарищи, и эти товарищи, изменившие себе, теперь являлись для меня чужими. Я верила в их стойкость, в их непреклонную волю и теперь видела перед собой не сплоченный коллектив, который я себе представляла, а распыленных личностей, слабых, нестойких, могущих отступать, как отступают обыкновенные люди.
От этих мыслей перевертывалась вся душа. Голодовка зашла уже далеко и вместе с ней и моя решимость довести ее до конца. После всего пережитого мне было уже легче умереть, чем жить. Все существо мое стремилось к смерти.
Да, я буду голодать и уморю себя. Я доведу предпринятое до конца. Пусть «они» отступили, это их дело, а я, что решила, то исполню.
И вот, когда для твердой воли был пройден предел, за которым невозможно отступление, когда не было ничего более желанного для меня, как оставить эту жизнь, уйти из этой жалкой, униженной, обыденной жизни, те же товарищи, двое из них, нанесли мне новый удар.
Для человека, который обладает волей и в полном сознании того, что он делает, остановился на определенном решении, не может быть большего оскорбления, чем вмешательство, не дающее выявиться его кристаллизовавшейся воле, ломающее ее. Это вмешательство, эта ломка есть покушение на духовную сущность человека, на его органическое право в особенностях поведения выявлять свою индивидуальность и творить свою неповторимую форму жизни.
И товарищи посягнули на мое решение, сломали мою волю.
Я и Юрковский голодали уже два дня, когда Попов, а потом Стародворский, каждый в отдельности, без сговора между собой, заявили мне: если я умру, они покончат с собой.
Это было нравственное насилие, и оно привело меня в ярость. Как! Эти мужчины, которые раньше сговаривались со мной, а потом, даже не спросив меня, отступили, теперь смеют требовать от меня того же! Их мужское самолюбие не может допустить, чтобы там, где они отступили, женщина оказалась последовательнее и тверже их; им стыдно, и они хотят меня свести к тому уровню, на котором стоят сами; они не хотели умирать, так и меня принуждают жить!