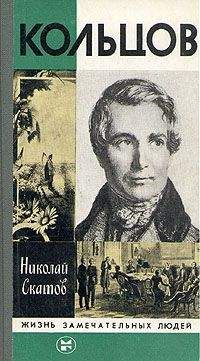С. Кошечкин - Весенней гулкой ранью...
бывшему имажинисту одну выписку. Это - цитата из сборника
литературно-критических очерков Федора Иванова "Красный Парнас", изданного в
1922 году в Берлине. Она гласит: "Имажинизм - яркий цветок умирающего
декаданса, поэзия разрушения и неверия, его языком заговорила культура,
дошедшая до предела, до самоуничтожения".
Вот тут декаданс на месте, "умирающий декаданс", к чему Есенин по
существу не имел никакого отношения.
Прав был Юрий Тынянов, отметив "самое неубедительное родство" у Есенина
с имажинистами, которые "не были ни новы, ни самостоятельны, да и
существовали ли - неизвестно".
Весьма характерна одна есенинская надпись на книге, относящаяся ко
времени его работы над "Пугачевым": "Не было бы Есенина, не было бы и
имажинизма. Гонители хотят съесть имажинизм, но разве можно вобрать меня в
рот?"
Действительно, если бы не Есенин, о группе имажинистов вряд ли бы
сейчас и вспоминали.
И, оставляя в стороне имажинизм Шершеневича и Мариенгофа, этот
неоригинальный "цветок умирающего декаданса", вероятно, следует говорить об
имажинизме Есенина. Ведь именно на эту мысль наводит только что приведенная
надпись на книге, как, впрочем, и известное высказывание поэта в связи со
"Словом о полку Игореве": "Какая образность! Вот откуда, может быть, начало
моего имажинизма!"
"М_о_е_г_о имажинизма!"...
4
...Беседуем с Городецким об имажинизме, о статьях Есенина "Ключи
Марии", "Быт и искусство". Сергей Митрофанович, как и прежде, весьма
критически отзывается о "теоретических построениях", содержащихся в этих
работах, в том числе и о есенинской "классификации образов". Я пытаюсь
защитить статьи, привожу цитаты из них.
- Разве не точно пишет Есенин о мифическом образе? - раскрываю том с
"Бытом и искусством", читаю: - "Образ заставочный, или мифический, есть
уподобление одного предмета или явления другому:
Ветви - руки,
сердце - мышь,
солнце - лужа.
Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений
человеческим бликам.
Отсюда Даждь - бог, дающий дождь, и ветреная Геба, что
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила".
- Кстати, - прерывает меня Городецкий, - над этой строфой тютчевской
"Весенней грозы" Есенин и подтрунивал: дескать, хорошо, только почему на
русских небесах - греческая богиня Геба? Говорил, а сам улыбался...
Прошу Сергея Митрофановича рассказать об отношении Есенина к поэзии
Тютчева подробнее. Помнит он, к сожалению, немногое.
В 1915 году по приезде в Петроград Есенин несколько месяцев жил у
Городецкого. Известный писатель имел неплохую библиотеку, и молодой рязанец
ею пользовался. Державин, Пушкин, Лермонтов, Никитин - любого поэта он мог
читать в лучших изданиях. Не раз побывало в руках Есенина Полное собрание
сочинений Тютчева, выпущенное издателем Марксом как приложение к журналу
"Нива" за 1913 год. Однажды Городецкий и Есенин беседовали о поэтах прошлого
века - знатоках древней мифологии, вспоминали Тютчева, его "Весеннюю грозу".
Больше о Тютчеве не говорили...
Осмеливаюсь высказать Сергею Митрофановичу предположение, что Есенин
своеобразно откликнулся на последнюю строфу "Весенней грозы" в одном из
стихотворений 1917 года.
- В каком же? - интересуется Городецкий.
У меня под рукой нужного тома не оказывается, и продолжение разговора
переносим на следующую встречу.
Надо полагать, с наиболее известными стихами Федора Ивановича Тютчева
Есенин познакомился в школьные годы: "Весенняя гроза", "Весенние воды",
"Зима недаром злится...", "Чародейкою Зимою..." печатались в хрестоматиях
тех лет. О том, что Тютчев, как, впрочем, и Фет, и Кольцов, и Некрасов, не
прошел мимо внимания юного поэта, говорят и ранние есенинские стихи.
Многим поколениям читателей запомнился тютчевский образ русского
зимнего леса, очарованного волшебным сном:
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Как бы с тютчевского голоса подхватывает эту тему Есенин и по-своему
ведет ее, опираясь на детали хорошо знакомого ему деревенского быта:
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна...
Тютчевский лес окутан волшебной дымкой не случайно: ведь он околдован
"чародейкою Зимою". У него - жизнь "неподвижная, немая, чудная", и весь он
под солнцем блещет "ослепительной красой"...
Есенинский зимний лес без таинственной дымки: заколдованный невидимкой,
он всего лишь "дремлет... под сказку сна" (у Тютчева: "Сном волшебным
очарован"). Сосна, что подвязалась "словно белою косынкой", уподобилась
согбенной старушке с клюкой. "А над самою макушкой долбит дятел на суку".
Стихотворение "Пороша" (1914), о котором только что говорилось, - во
всем корпусе есенинских произведений, пожалуй, единственное, где более или
менее ощутимо прямое влияние Тютчева. Однако дело не в количестве подобных
примеров. Суть в близости живого и непосредственного чувства природы у
Тютчева и Есенина.
Страстное утверждение старого поэта:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык... -
молодой лирик не мог не разделить всем сердцем: он и сам воспринимал каждую
травинку, каждое дерево как нечто одушевленное, неотделимое от человека. В
то же время характер образов одушевленной природы у того и у другого поэта
различен. "Вечер пасмурно-багровый светит радужным лучом" и "Теплый вечер
грызет воровато луговые поемы и пни" - принадлежность этих строк угадывается
сразу.
Образы природы из некоторых поздних стихотворений Тютчева вообще чужды
Есенину (например, "природа-сфинкс"), как чужды ему тютчевская космогония, мысль о "древнем хаосе" - основе мироздания...
В 1855 году под впечатлением поездки в родное село Овстуг (Орловская