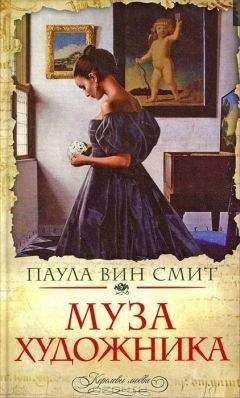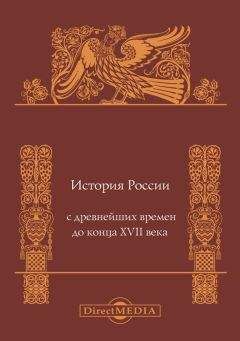Луиджи Гуарньери - Двойная жизнь Вермеера
Дело было примерно так. 24 мая 1921 года в девять часов утра – в час, когда он обыкновенно готовился ко сну, – Марсель Пруст вызвал к себе в спальню Одилона Альбаре, мужа своей экономки Селесты. Затем он объяснил Альбаре, своему шоферу и механику, человеку, которому доверял, что тот должен взять такси и заехать за Жаном-Луи Водуаером, его другом и критиком искусства, выбранным им в качестве сопровождающего на выставку в Jeu de Paume.[10] Одилон кивнул и исчез в глубине коридора. Пруст обмотал вокруг головы наподобие тюрбана покрывало из шотландской шерсти и снова принялся листать статью Водуаера в «Опиньон» – великолепную работу, тронувшую его до глубины души. Мысль о том, что он вновь насладится «Видом Делфта», воодушевляла его и дарила столь редкий теперь проблеск счастья. Едва увидев этот шедевр в музее Маурицхейс в Гааге – i8 октября 1902 года, – Пруст поверил, что перед ним самая красивая картина на свете. Поэтому он всегда с особенной радостью вспоминал тот день, хотя было это восемнадцать лет назад: тогда заканчивалось его прекрасное путешествие в Голландию вместе с дорогим другом, графом Бертраном де Салиньяк-Фенелоном. К несчастью, несколько месяцев спустя Фенелон лишил его своего драгоценного общества, вскочив в Восточный экспресс на Лионском вокзале и отправившись в Константинополь, чтобы занять там должность атташе во французском посольстве.
Решение отправиться в Голландию было неожиданным, тем более что Пруст и слышать не хотел о том, чтобы расстаться с Парижем. Но однажды они с Фенелоном прочли те страницы «Старых мастеров», которые Фромантен посвятил голландским и фламандским художникам, и тронулись в путь. В Амстердаме они разместились в «Hòtel l'Europe», который Пруст нашел пугающе дорогим, хотя благодаря водяной системе отопления и наличию горячей воды у него не было ни единого приступа астмы за все время пребывания там. Чтобы не тратить десять франков на обед в гостинице, Фенелон принялся бегать по тавернам, в то время как Пруст голодал и в восхищении наблюдал, вдыхая стойкий запах моря, за чайками, которые планировали среди камня улиц. В Делфте его заворожил вид оголенных морозом деревьев с нагими ветвями, хлеставшими по ставням островерхих домов, посреди бледной северной осени – они стояли на насыпях по обеим сторонам канала. Но самое сильное впечатление за все путешествие родилось именно при созерцании картины Вермеера.
После посещения музея Маурицхейс Пруст остался без гроша: он написал родителям, что его ограбили, и 20 октября они с Фенелоном вернулись в Париж. Но одержимость Вермеером сохранилась, так что делфтский мастер неизбежно должен был попасть в его роман. Правда, начиная писать его, Пруст испытывал некоторые сомнения касательно персонажа, который унаследовал бы от автора страсть к Вермееру. Решив вначале наградить ею герцога Германтского, он задумал сцену, в которой повествователь спрашивает у герцога, имел ли он удовольствие насладиться «Видом Делфта», а тот отвечает со спесивым и самодовольным видом: «Ну, если он того стоил, я, верно, его видел!» Но иногда персонажи живут собственной жизнью, действуют на страницах, будто они реальные люди, и рушат авторский замысел. Нет, подходящим персонажем, который мог бы питать особое почтение к Вермееру, стал вовсе не герцог Германтский, а Шарль Сван.
Жадный до новостей о своем любимом произведении, Пруст в очередной раз перечитывал прекрасную книгу Ванзипа о Вермеере, которую недавно приобрел. Там он нашел подтверждение своему беглому впечатлению: «Вид Делфта» выглядел аномалией среди всех творений Вермеера, ведь тот, кажется, гораздо больше интересовался женскими фигурами в бюргерских интерьерах. Кроме того, картина исчезала больше чем на век, между аукционом Диссиуса в 1696 году и аукционом Стинстры в 1822-м. Сам король Вильгельм I пожаловал деньги на ее покупку по просьбе директора Рейксмузеума, но после того как нидерландское государство приобрело картину, король неожиданно решил, что она должна быть выставлена в собрании его величества в гаагском музее Маурицхейс, несмотря на то, что его директор Йохан Стенграхт вовсе не так высоко оценил полотно Вермеера, которое находил непривычным и слишком большим.
Не удовольствовавшись тем, что освежил в памяти Ванзипа, Пруст едва ли не наизусть выучил статьи, посвященные выставке в Jeu de Paume: Леона Даде в «Аксьон франсез» и Клотильды Мисме в «Газетт де Боарт». Но именно благодаря статье Водуаера, озаглавленной «Le mystérieux Vermeer»,[11] он снова вспомнил самые изумительные детали «Вида Делфта». Золотистое сияние песка на переднем плане. Нагруженные дождем облака в вышине на бескрайнем небе. Отражение Скьедамских и Роттердамских ворот, плывущее в голубой стали канала. Город, освещенный краем солнечного луча. И прежде всего драгоценная поверхность той небольшой части желтой стены, написанной Вермеером с невероятным умением и утонченностью, достойной китайских мастеров.
Водуаер много раз говорил ему об азиатском влиянии на творчество Вермеера. В 1602 году голландская Ост-Индская компания обосновалась в Батавии, завязав интенсивную торговлю с метрополией, поэтому неудивительно, что Вермеер имел возможность любоваться предметами индонезийского искусства, которые входили в частные собрания Делфта. Он же написал несколько портретов девушек, одетых «по турецкой моде», в разноцветных тюрбанах, завязанных узлом на лбу. Дядя Вермеера дважды уезжал на Яву в поисках счастья и в конце концов остался там. Многие голландские художники, например Михаэль Свиртс, умерший в Гоа, обосновались на Востоке. Рембрандт копировал могольские миниатюры. Согласно Водуаеру, в работе Вермеера можно заметить что-то подобное китайскому терпению, способность скрывать детали, касающиеся подхода к работе, который проявлялся в выборе красок, лаков, резных камней и плавленой эмали из восточной керамики. Эти слова не могли не поразить Пруста, всегда восхищавшегося мыслителями и искусством Востока: изысканная «китайщина» Вермеера казалась созданной для того, чтобы тронуть какие-то струны его души. Нет ничего странного в том, что внезапное решение пойти на выставку в Jeu de Paume стало одним из немногих желаний, от которых Пруст не мог отмахнуться. На билете для Водуаера, врученном им Одилону Альбаре, он написал: «Хотите ли вы отвести туда такого мертвеца, как я, который обопрется о вашу руку?»
Ожидая возвращения Одилона в такси, взятом напрокат в славной компании «Юник» – блестящем детище коммерческого гения Ротшильда, – Пруст закутался в шаль и принялся нервно бродить по квартире на четвертом этаже дома номер 44 по улице Гамлен, куда он переехал 1 октября 1919 года. Там ему суждено было найти последнее прибежище, и, может быть, он это знал: поэтому и заставил обойщиков и монтеров работать до часу ночи 30 сентября, прежде чем решился вступить во владение ею. Улица была очень тихая, немного скучная и чуточку зловещая. Она тянулась вдоль склона, шедшего от авеню Клебер и заканчивавшегося посреди дороги, ведущей от Триумфальной арки к Трокадеро. На другом берегу Сены виднелся гигантский металлический скелет Эйфелевой башни. На улице жили одна принцесса, пять маркизов, шесть графинь и один барон. Мадам Стэндиш обитала как раз на перекрестке с улицей Беллуа. Хозяин дома, господин Вира, – имя его фигурировало в «Bottin Mondain»[12] рядом с именами аристократов, – владел пекарней на первом этаже и замком в департаменте Сена и Марна. Частично меблированная квартира Пруста – обычно он называл ее «норой, где и кровать-то еле помещается», – стоила ему 16 тысяч франков арендной платы в год. Едва поселившись в этой отшельнической келье, Пруст подарил удобные войлочные туфли детям, которые без передышки носились туда-сюда на верхнем этаже, чтобы от их невыносимого топота не взорвалась его черепная коробка.