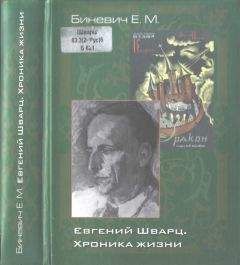Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Пятый класс приближался к концу. Рядом с Милочкой поселилась Зина Лабзина, дочь какого‑то известного специалиста по городскому хозяйству, приглашенному городской управой. Проще говоря, Лабзины поселились рядом с Крачковскими, против училища.
Это было время «расцвета» моего родного города. Нефть! Англичане! Конторы «русского подданного» по фамилии Леопольд Луич Андрейс. Городским головой избран был Козополянский, и, очевидно, таким образом правая группа гласных оказалась в меньшинстве. Вот тогда‑то и были притащены в Майкоп Лабзин и Колычев. Этот последний, помнится, был проведен в члены управы. Помню разговоры о цензе, который надо было ему устроить, чтобы он попал в гласные. Член управы — это должность, по — моему, выборная? Гласными Думы стали и Коробьины — кажется, оба брата. Во всяком случае, я помню, что Лев Александрович был гласным наверняка. Много разговоров вызвало то, что на заседании Думы у него в кармане вдруг выстрелил браунинг. Пуля никого не задела. С браунингами вечно случались подобные происшествия — то забывали патрон в стволе, то забывали опустить предохранитель. Случай со Львом Александровичем, впрочем, приписали скорее не револьверу, а новой, бесшабашной, отчаянной натуре, которая все заметнее выступала в нем. Итак, чуть ли не все наши знакомые, и, кажется, папа тоже, — стали гласными Думы. Братья Просянкины заняли правое крыло. Точнее, присоединились к нему. Правым был Бакулин Карп Александрович, «Кап — Саич», как звал его насмешливый Водарский. Обе майкопские газеты давали отчеты о заседаниях. Огромным успехом пользовался фельетон в стихах, описывающий одно из заседаний, где Просянкин пел на мотив «Китаяночки»: «Я и братец мой Павлуша защищали, защищаем, будем вечно защищать интересы городка!» Слова не совсем укладывались в мотив, но нам тем не менее нравились.
Помню разговоры у нас за столом о том, что Козополянский — хороший человек, но в городском хозяйстве неграмотный. Папа все приводил какое‑то место из его речи в Думе. Появился в наших кругах маленький, черненький, серьезный человечек — инженер Фрид. Поселился он в доме одного из многочисленных Эльфандов — изобретателя печки под названием «Сеновар». Объявления об этой печке были расклеены по всему городу. Когда мы пришли к Фриду в гости как‑то днем, печка дымила среди двора, а изобретатель Эльфанд в толстых очках объяснял покупателю ее устройство. Фрид рассказывал о своих злоключениях. Жена Фрида, крупная еврейка с крупными зубами, угощала нас чаем. Юрка Соколов очень хорошо показывал, как Фрид рассказывает: «Я бы мог написать целую книгу “Инженег Фгид. Как я стгоил водопговод”». Через год или два я узнал, что застенчивая, крупная, с крупными зубами жена Фрида находится в психиатрической лечебнице. Ее охватила навязчивая идея, что она потеряет зубы. А водопровод был выстроен и проведен во множество квартир. Так жизнь кружилась и неслась, и мы то замечали ее, то нет. Школьные события заслоняли для нас все. Сейчас не могу вспомнить, когда была проведена железная дорога в Майкоп. Поезда ходили только по линии Армавир — Майкоп. Дорога от Белореченской до Туапсе строилась очень медленно — тоннели через Гойтхский перевал, как рассказывали, шли спиралью. А наша линия торжественно открылась, и наши фургонные муки прошли.
Я был очень взволнован этим событием — железная дорога в Майкопе! Я ходил на маленький майкопский вокзал и там любовался поездами. Вокзал был построен лицом к степной стороне окрестностей Майкопа. Если идти от Белой, от городского сада, то, пройдя весь город и большой пустырь за городом, ты и приходил к вокзалу. В маленьком белом домике появился, поселился столь мной обожаемый железнодорожный дух: и телеграфист за окнами, и касса, и даже буфет с длинным столом, покрытым белой скатертью, с пальмами и стойкой с особыми вокзальными закусками, с блеском никелированных крышек, с мрачным буфетчиком. И я, очарованный всем этим, ходил на вокзал каждый день. И когда составлялся пассажирский поезд, я катался на ступеньках вагона, пока однажды сцепщик не прогнал меня. И я обиделся, и вокзал вдруг потерял для меня все очарование. Проходил учебный год, приближались экзамены. Чем ближе подходила весна, тем страшнее мне становилось. У меня был страх остаться на второй год, доходящий до мании. Я загадывал: если я спрыгну с такого‑то количества ступенек, то перейду в шестой класс. Или наоборот — вспрыгну на десятую ступеньку. И это прыганье тоже превратилось в некоторую манию. Мы выходили из электробиографа (уже третьего, кажется, открывшегося в городе? Нет, четвертого, если считать летний «Иллюзион»), И я спрыгнул вниз с восьми ступенек у выхода. И дама, шедшая позади меня, вскрикнула от ужаса, ей показалось, что я падаю. В кино я был с Агарковыми, и Иосиф Эрастович заметил с обычной своей насмешливой манерой, что это счастье, что женщина не была беременная.
Итак, экзамены приближались. Весна к началу экзаменов в Майкопе была уже в разгаре. Цвели яблони в нашем саду, и в цветах жужжали пчелы. Это жужжание на бело — розовых яблоневых ветвях и теперь радует меня и тревожит. И вот вывешено расписание, и я переписываю его особым образом на лист картона. Так я делал в прошлом году, и экзамены кончились благополучно. И это стало приметой. Из всех экзаменов запомнил я только один: по алгебре. Я решил задачу, и, к ужасу моему, оказалось, что равняется странной сумме: 11 13/17 (примерно). Я проверил задачу — ошибок нет. С тяжелым сердцем вышел я из зала — и, о радость! Ответ у всех оказался таким же. И все экзамены прошли столь же удачно, и я перешел в шестой класс. Старшие решили, что мы уедем на лето сначала в Сочи, а потом в Красную Поляну, чтобы Валя поправился после своей плевропневмонии…
И тут началось второе роковое лето моей жизни. После того как я посмел рассказать о первом, второе пугает меня меньше. Необходимость рассказывать о нем не пугает меня, хотел я сказать. Как‑нибудь выплыву. Хотя это лето, встреча со странной женщиной. Не то пишу. Женщина была не странная. Впрочем, если доживу, расскажу и, как всегда, теперь пойму многое из того, что пережил, только припомнив и записав. Мы проехали на извозчике с плоской крышей, украшенной помпонами, через весь город к так называемым Ермоловским участкам. Здесь, далеко от моря, в беленьком домике жили знакомые Коробьиных. Что это со мной сегодня? Бестолково рассказываю. Здесь, в собственном домике, возделывая собственный садик, жили муж и жена, друзья Коробьиных, люди уже немолодые, занявшиеся садом по соображениям идейным. В одной комнате поселились мы, в другой Софья Сергеевна с Галькой, которой было тогда около трех лет, и Глебом — лет пяти. Хозяева, кажется, жили в другом домике. Они были задумчивы и чуть печальны, как все идейные люди, решившие так жить — в одиночку, по — своему. Они всё возились на маленьком своем винограднике и держались в стороне от нас. И началась летняя жизнь.