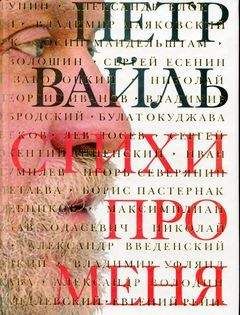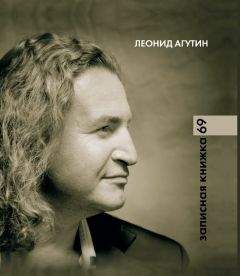Шарль Азнавур - Прошлое и будущее
Манушян
До того как Мисак Манушян стал героем Сопротивления, в армянской общине он был известен в основном благодаря своим стихам. Они с женой Мелинэ часто приходили к нам поговорить о театре, поэзии, а иногда — о некоторых действиях, предпринятых против слишком усердных коллаборационистов, высокопоставленных членов армии оккупантов и немецкой комендатуры. Разговоры велись шепотом, словно и стены могли понимать армянский язык. Еще Мисак обожал играть в шахматы — это он научил меня основам игры.
В 1944 году Манушяна и его группу арестовало гестапо. Плакаты, напечатанные миллионными тиражами, были расклеены по всей столице, по всей Франции. На них были изображены лица преступников, тех, кого называли «иностранцами». Было видно, что их били и истязали. Впоследствии мы узнали, что Мисак получил четырнадцать переломов лицевых костей. Мелинэ в панике спряталась у нас. Мы с тревогой ждали новостей. Они оказались плохими — все схваченные участники Сопротивления, «террористы», как их называли немцы, были расстреляны.
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Бог мой, сколько разочарований…
Подписание германо — советского пакта разрушило все наши большие надежды и прекрасные иллюзии. Мы боролись за «радостное завтра», но это «завтра» оказалось безрадостным: Советы должны были открыть нам врата рая, а вместо этого с большим успехом сумели организовать для нас ад. Все чаще и чаще ходили слухи о неблаговидной роли партии, в частности, в деле тех самых участников Сопротивления группы FTP‑MOI, которых немцам удалось захватить. В нем и до сих пор остаются темные пятна. Теперь, когда Французская коммунистическая партия старается сделать все возможное, чтобы сформировать новое представление о себе, и более не находится под каблуком у Советского Союза, почему бы не прояснить столь темное и запутанное дело о «Красной листовке», которое, как говорят, не делает ей чести?[18]
После казни группы Мисака Манушяна мы все очень беспокоились, поскольку, когда Мисак нуждался в сотруднике не из членов группы, он часто обращался к армянским женщинам. В частности — к моей матери, которая до и после акции покушения наряду с другими развозила оружие в детской коляске, чтобы уничтожить все следы на тот случай, если нацисты арестуют кого‑либо из партизан.
Долгое время после воззвания 18 июня, которое мне так и не удалось поймать на волнах передачи «Французы обращаются к французам», переданной каналом Би — би — си, мы вместе с остальной молодежью ходили по улицам и как безумные выкрикивали: «DeuxGaulle, deuxGaulle![19]». У некоторых из наших товарищей произошли неприятные стычки с поклонниками новых кумиров. Что касается меня, то я получил в метро знатный удар под зад от одного немецкого военнослужащего, потому что с жаром объяснял Жану — Луи Марке, что пора, наконец, заполучить для нас контракт с мюзик — холлом, где мы будем «американской знаменитостью». В то время часто говорили о высадке союзников.
Нацистский военный, услышавший этот разговор, не мог знать, что «американская знаменитость» на языке нашей профессии — это всего лишь артист, выступающий в конце первой части представления. Тот удар не имел серьезных последствий, и мне не пришлось совершить путешествие в Германию на Arbeit[20].
Освобождение
Радио Лондона, «Французы обращаются к французам», де Голль, Освобождение… На окнах развешиваются флаги, они уже скоро придут, они пришли… Подождите, это еще не они… Да нет же, нет, они! И снова вывешиваются флаги — наш трехцветный и флаги союзников. Август 1944 года, весь Париж вышел на улицы. Это радость одних и страх других, это военные униформы союзников на тротуарах столицы, проезжающие танки, преследование коллаборационистов и музыкантов, их поимка, исправление и осуждение, зачастую чересчур поспешное. Мы с Аидой и Мишлин, стоя на тротуаре улицы Лафайет, демонстрировали союзникам бурную радость, а они горстями бросали нам шоколад и жвачку. В общем‑то, говоря «нам», я имею в виду Мишлин и Аиду, я же только складывал все это в сумку. Потом я обменял наши трофеи на другие вещи, которых мы были лишены в течение многих лет, и которые я так любил.
Чтобы отомстить за наши страдания, налысо стригли женщин, порой как следует не разобравшись, вешали на фонарных столбах коллаборационистов, преследовали фашистов — поли- цейских, покончили с торговцами, обогатившимися благодаря войне, посадили в тюрьму Саша Гитри только за то, что он был знаменит, а по ходу дела сводили личные счеты, продавали соседей и т. д., и т. п. Судили порой без разбора и много чего делали, делали, сделали, но все же — и это важнее всего — стерли последние следы пребывания серо — зеленых, испоганивших наши города и села.
Наконец‑то мы свободны, теперь можно посвятить себя обыденным, простым и приятным делам. Одни испытывали страх, другие — радость и надежду на скорое возвращение пленных. Но надо было развлекать военных, впервые открывших для себя Париж, город мифов. «О — ля — ля, прелестные девицы!», квартал Пигаль, кабаре, «Мулен — Руж», френч — канкан — иначе говоря, полный фольклорный набор, который гипнотизирует и притягивает мужчин всего мира. Ночные кабаре вновь открыли двери для посетителей, нужны были дополнительные развлечения, раздетые девочки, новые ритмы…
Время оккупации оставило плохие воспоминания, но и период после освобождения произвел неприятное впечатление. Поскольку мы с Пьером не собирались сводить никаких личных счетов, то просто радовались жизни в компании таких людей, как Жорж Ульмер, Франсис Бланш и друзья из «Клуба песни». А раз уж открылись новые площадки для выступлений, то надо было работать, зарабатывать на жизнь, находить новые связи. Мы отслеживали прослушивания в квартале Пигаль, где по вечерам наблюдалась самая высокая концентрация военных из армии союзников, которые от всей души веселились, вели торговлю и напивались. Прослушивание у господина Барди, который владел большинством заведений площади Пигаль, решило все. Барди спросил, сколько мы хотим за три дня работы, и я ответил, что три тысячи. «В день?» — спросил он. «Конечно!» — не моргнув глазом ответил я. «На каждого?» На всякий случай я ответил «да». Вот так наш гонорар из трех тысяч за три дня превратился в восемнадцать тысяч франков — целое состояние!
Наконец‑то мы свободны! Теперь можно подумать о приятных и обыденных вещах. И мы объявили о бракосочетании, назначили день свадьбы. Я отправился в армянскую церковь на улице Жан — Гужон, 15, находившуюся в VII округе, чтобы оговорить условия. Семья Азнавурян была достаточно известна в общине, и я признался священнику, что средства позволяют мне оплатить лишь скромное благословение. У него появилась прекрасная мысль: если я перенесу на неделю дату церемонии, то смогу воспользоваться пышным цветочным убранством церкви, оставшимся после бракосочетания младшего Бека, наследника известных филателистов с площади Мадлен, который устраивал роскошную свадьбу. Мы с Мишлин поженились, как богатые люди. Выйдя из церкви, я потратил на такси последние пятьдесят франков. После небольшой вечеринки в доме моих родителей мы переехали на улицу Лувуа, 27, в комнату, предоставленную нам семейством Парсегян, которые были нам очень близки и приходились маме родственниками. Это были Симон, Робер, Арман, Нелли и семья Папазян с детьми Катриной, Шаке и Миной. Комната находилась на последнем этаже, окна выходили в коридор. Все удобства — на лестничной клетке. Зато у нас был камин, а немногочисленная мебель сотрясалась всякий раз, когда над домом пролетали самолеты. Но мы были молоды и влюблены. Мы были богемой, а это значит, что мы были счастливы.