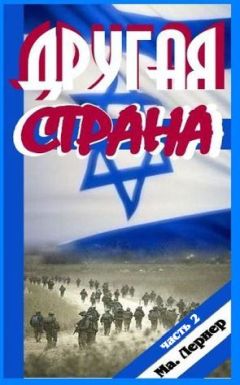Лариса Бау - Нас там нет
— Ай да гусар, угостите портером, — цитировали развратниц наши дамы.
Я убегала в другую комнату рыться в книжном шкафу, старых журналах, нотах, мне туда приносили угощение. Заглядывая на их стариковский праздник, я видела, как дамы собирались кружком, держа чашечки двумя пальцами, вспоминальничали, сводничали, напевали арии. Гусары курили на веранде. После начинали играть на фортепьянах, петь из Шуберта, подтягивались соседи, переходили за стол во дворе. Зажигалась керосиновая лампа, вокруг летала мошкара, разрезали обязательный торт «Наполеон». Он всегда застревал у меня в горле масляными хлопьями. Как им не надоест одно и то же? И радуются, как дети.
Когда мой дедушка умер, Илья Федорович уже не вставал с постели, на похороны пошла Ольга Александровна.
Все они уже давно мертвы, их фотографии пожелтели и скоро рассыплются в прах.
Моя любовь — Доктор Марк Михайлович
Еще до всяких разговоров шепотом про неприличность любви, у меня эта самая любовь уже была.
Как бриллиант чистой воды. Как снежная вершина недоступной горы. Как замирание сердца и ватность в ногах. Как я не знаю что, ну прямо как если бы у нас из ямы посреди двора сияние исходило.
Но то всё чувства. А интересующимся, так сказать, ЛИБРЕТТОМ его личной жизни я чистосердечно обо всем напишу, скрипя сердцем.
Мой Доктор был такой красивый, стройный-высокий, на плечах у него было по три золотые звездочки, и на фуражке — золотом листики, и красные полоски на штанах. У него была серая «Победа» и гараж во дворе, куда иной раз удавалось заглянуть. Мальчишки визжали от радости, а мне не нравилось в гараже, там воняло и никаких фантиков или лоскутков. Я не ожидала там найти плюшевых медведей, ну что я совсем дура, что ли, ну хоть разноцветных проволочек или серебряной бумаги…
Ну да, были гайки разные, которые он дарил мальчишкам, они зажимали их в кулачке и хвастались потом на весь двор.
Так вот, говорили, что первый раз Доктор женился во время войны. Он был на войне сначала с немцами, а потом с японцами, и всегда был доктором, а не подневольным благородным убивцем, которым становится каждый солдат, когда на него нападают. Иногда ему приходилось надевать медали и ордена, он быстренько шел по двору, стыдливо прикрывая грудь фуражкой. А дедушке как-то раз сказал, что чувствует себя бульдогом на выставке, когда приходится медали надевать. Это мне было непонятно: вы когда-нибудь видели бульдогов на войне? За что им тогда медали? Но раз он, Доктор, так сказал, значит, это было умно и имело тайный смысл.
Ну вы понимаете, то, что говорят взрослые, имеет тайный смысл, особенно когда наружу никакого нет.
Ну я отвлеклась.
Этой фронтовой жены никто не видел, я это знаю, подслушав, как бабушка дедушке говорила. Бабушке вообще доверяли тайны, она изредка рассказывала их дедушке, а он уж точно никому. Если это, конечно, не было преступлением. Дедушка преступлений не терпел. У Доктора не было недостатков, у него были оковы — его мамаша Берта Лейбовна.
Она была очень старая женщина. Вечером, когда спадала жара, она выползала посидеть перед подъездом во дворе.
Иногда подходили соседки поболтать.
Дети сторонились ее. У нее был скрипучий каркающий голос и страшный инвалидный ботинок, как огромное копыто. Бабушка не позволяла мне смотреть на него в ее присутствии.
Сладость ужаса проникает в детское сердце, притягивает, не отпускает. Я пыталась представить ее ногу в нем, в голову лезли куриные лапы, козлиные мохнатые копыта, рыбьи плавники. Тогда это было совсем не смешно.
Однажды я спросила дома: что у нее там в ботинке?
— Больная нога, неприлично спрашивать, это ее расстроит. Всё, точка.
Бабушке очень важно было научить меня правилам поведения в жизни, а саму жизнь я могла добыть сама.
Один день в году Берта Лейбовна не появлялась во дворе. Соседи отгоняли детей от ее окон на первом этаже: она больна, давайте все отсюда!
Как-то среди нас, детей, прошел слух, что не больна она вовсе, а колдует.
— Она же ведьма, не знала, что ли? У ведьмов всегда такие ноги.
— Но у ведьм обе такие ноги, если уж так, а у нее одна!
— Не веришь? Пойдем, увидишь — колдует.
Мы пролезли через цепкие кусты под окном ее комнаты, забрались на узкий карниз.
В сумеречной комнате на кровати сидела Берта Лейбовна. В ночной рубашке, покрыв голову полотенцем. Она раскачивалась, негромко монотонно бубнила своим скрипучим голосом непонятные слова.
Она была босая. Ведьмина нога кончалась скрюченной детской короткой ступней, розовой, беспомощной, как крысячья лапка.
Слезли с карниза, ошеломленно молчали под окном, слушая загадочные слова: «Барух ата адонай, элохейну мелех хаолам…»
* * *Бабушка сватала Доктору одиноких женщин, остальные сами сватались. Вся улица знала, какой завидный жених в нашем дворе имеется, поэтому заглядывали к нам разные дамочки, как бы просто так… а мы их встречали понимающим взглядом.
Вот например, НинМихална.
НинМихална была дородная женщина. Большая, как бегемот, и модная, как Жаклин Кеннеди.
Бабушка шила ей. Обе соблюдали тайну, чтоб фининспектор не застукал. Были у них и другие тайны, закрывали в комнату дверь, чаевничали… Не всегда удавалось подслушать.
Но как-то раз удалось. И сердце мое обмерло и остановилось. Они строили планы захомутать Моего Божественного Возлюбленного, Моего Военного Доктора, Старого, но Стройного, Холостого, но со скрипучей матерью в страшном инвалидном ботинке. Она, эта крокодилица, кровавая помада, полумесяцем бровь! Туфли-лодочки! Лодки, баржи! Как я завидовала соседям, у которых кот писал гостям в ботинки!
Бедняга невинно кокетничала со мной: «Ах, бабушка твоя такая мастерица…»
Как же мне хотелось, когда ОН проходил по двору, задевая фуражкой ветки деревьев, Высокий Красавец Мой, донести про бабий заговор!
Они выработали стратегию, сначала надо было заполучить на свою сторону мамочку — эту глуховатую инвалидку, сидевшую с костылем у подъезда. Ну вы помните, у нее был копытный ботинок? Детская простодушная жестокость! Не будь проклятого ботинка, может, стали бы приятелями, она бы рассказывала, как была девочкой, стройной, легкой. Мне тогда казалось, что все хотели быть девочками. Когда и как они сговорились, я не знаю. Но вот судный день настал. НинМихална отправилась на материнские смотрины.
На глазах у всего двора она нависла над старушкой, готовясь проорать в глухое ухо необходимую любезность. Бабушка целомудренно стояла в стороне, народ навис с балконов. Вечерело, время было неудачное, сплетенное.