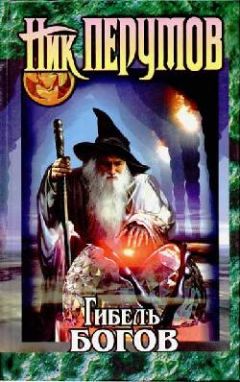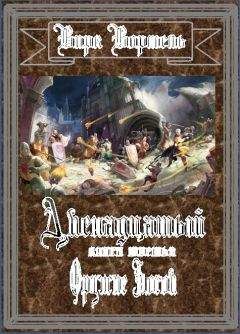Иван Жиркевич - Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789–1848
До нашествия французов в самом Смоленске жил мой зять, Фролов, служивший там при военном госпитале смотрителем; сестра же моя скончалась в марте месяце, когда мы подошли к Смоленску. Зятя я застал еще в его доме, но он уже собирался выехать вслед за моей матерью, которую я успел найти у моей тетки Адамовичевой, за Смоленском, верстах в пятнадцати. Она перебиралась в Дорогобуж, к родному своему брату, весьма налегке; так мало думали, чтобы французы пошли далее Смоленска! Да и мы мечтали, что по соединении обеих армий дадут решительный отпор неприятелю. Конечно, были люди, которые рассчитывали и на противные результаты.
Деревня моей матери была за Днепром, верстах в шести от Смоленска и почти в одном расстоянии от наших бивуаков, не проезжая город. Мужички наши с усердием ежедневно таскали ко мне живность и другие запасы, пока мы стояли близко к Днепру, и не только я, но и мои товарищи в эту стоянку имели хорошее продовольствие; кроме того, я каждый день по несколько часов проводил с невестой, ибо семейство ее прожило в Смоленске дней десять, а потом отправилось через Ельну в Москву, не зная решительно, где и у кого со временем будут иметь пристанище.
Близ Смоленска мы простояли около двух недель. Раз пять нас подавали вперед по береговой дороге к Витебску на Рудню и два раза доходили до деревни Гаврики, следуя всегда на деревню Шеломец. А как в каждой дислокации похода встречалось это последнее название, то солдаты прозвали эти передвижения «ошеломелыми», и действительно, мы сами не могли понять причину наших маршей и контрмаршей. Впоследствии Алексей Петрович Ермолов при мне рассказывал, «что тогдашнее наше положение до такой степени было сомнительно, что один Бог мог распутать наши дела… Наполеона потеряли из виду: то думали, что он обходит Смоленск и тянется боковыми путями на Москву; то – что он заслонил нам Петербург и думает дать туда направление всей своей армии».
– Один раз в Гавриках, – говорил Ермолов, – я был в таком положении, что едва ли когда кто другой находился в подобном. Барклай сидел среди двора одного дома на бревнах, приготовленных для построек; Багратион большими шагами расхаживал по двору, и ругали в буквальном смысле, один другого. «Ты немец! Тебе все русское нипочем», – говорил князь. «Ты дурак и сам не знаешь, почему себя ты называешь коренным русским», – возражал Барклай. Оба они обвиняли один другого в том, что потеряли из виду французов и что собранные каждым из них сведения через своих лазутчиков одни другим противоречат! Я же в это время, – добавил Ермолов, – будучи начальником штаба у Барклая, заботился только об одном, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора, и потому стоял у ворот, отгоняя всех, кто близко подходил, говоря, что «главнокомандующие очень заняты и совещаются между собой».
Наконец 2 августа, когда мы стояли в параллель дороги на Духовщину, нам опять объявили поход на Шеломец и на Гаврики. Мы выступили вечером, часов в девять, всю ночь тянулись нога за ногу и едва прошли верст десять, как вдруг в третьем часу утра услыхали пушечные выстрелы за Днепром, и нас опять повернули усиленным маршем к Смоленску. Французы, маскируя свои движения, между Красным и Лядами, у местечка Рососны, сделали действительную переправу и ударили на Неверовского. Я не буду описывать то, что уже известно из реляций и чего сам не видал; но когда мы подошли к городу, то в глазах наших по другую сторону происходила жаркая свалка. Неверовский со своими остатками приперт был уже к самой стене города; гренадеры были высланы к нему на подкрепление и удержали французов. Справедливо ли, но как тогда, так и после слышал я, что возможностью подкрепления Неверовского гренадерами опять руководил случай. Гренадерами командовал принц Мекленбургский.[164] Вечером 2-го числа, когда была прислана в его дивизию дислокация о походе, он так крепко спал, что его долго не могли добудиться; будили в несколько приемов, что взяло времени около двух часов, и двумя часами дивизия запоздала выступлением; а это опаздывание вместо вреда обратилось к нашей выгоде. Если бы гренадеры были несколько верст далее на походе, французы, оттеснивши Неверовского, непременно бы заняли Смоленск и были бы уже в тылу наших.
Бой 3 и 4 августа происходил в виду наших армий, которые в течение двух недель стояли тылом к Смоленску, а лицом к Петербургу; теперь же, когда дрались за Смоленск, мы стояли, уже повернувшись на своей оси. Наша бригада в резерве стала на левом фланге, против Раевского пролома, и одна из рот, вместе с нами составлявшая резерв артиллерийский, подполковника Нилуса,[165] была отделена от нас и с этого берега Днепра фланкировала стену города у этого пролома с большей, конечно, славой, но без всякой для себя опасности; ибо в то время, когда французские колонны, пользуясь кустарниками и рытвинами, с этой стороны стали спускаться в обход стены к пролому, удачными выстрелами Нилусовой батареи были удержаны и не дошли до Днепра, а потому не могли на этот раз отрезать и уничтожить переправу для бившихся за Смоленском наших войск. Но до Нилусовой батареи не долетало ни одно неприятельское ядро, ибо она стояла гораздо выше той французской батареи, которая была направлена против нее.
Нашей бригадой за отделением Ермолова к важнейшим занятиям командовал полковник Эйлер. 3 августа, когда мы заняли нашу позицию, он, подойдя к моему бивуаку, вызвал меня и сказал:
– Ты хорошо знаешь, Иван Степанович, церковную службу и, верно, знаешь, какое читают Евангелие, когда служат молебен Божией Матери? Правда ли, что тут говорится, что она пробудет в отсутствии из дома три месяца и потом возвратится опять к себе?
Я отвечал, что хотя и говорится о трех месяцах, но это уже в прошедшем, а не в будущем отношении, и повторил ему буквально выражение этого текста Евангелия.
Он мне тут же прибавил:
– Ну, вот теперь на этом тексте основывают нашу надежду! Говорят, что мы Смоленск отдадим французам, но через три месяца опять будем тут же.
Тотчас вынесли чудотворный образ Божией Матери[166] из церкви, что над Днепровскими воротами, и при этом пели непрестанные молебны, причем все повторяли эти слова.[167]
В то время, когда происходила самая жаркая битва в Смоленске, который переходил на глазах наших несколько раз из рук в руки, и когда город весь был объят пламенем, я увидел Барклая, подъехавшего к батарее Нилуса и с необыкновенным хладнокровием смотревшего на двигавшиеся неприятельские колонны в обход Раевского[168] и отдававшего свои приказания… Но какая злость и негодование были у каждого на него в эту минуту за наши постоянные отступления, за смоленский пожар, за разорение наших родных, за то, что он нерусский! Все накипавшее у нас выражалось в глазах наших, а он по-прежнему бесстрастно, громко, отчетливо, отдавал приказания, не обращая ни малейшего внимания на нас. Тут вдруг увидели, что по мостам переходят войска наши на эту сторону Днепра, за ними толпой тащатся на повозках и пешими бедные смоленские обыватели; резерв наш передвинулся за пять верст на дорогу, идущую в Поречье, и две батарейные роты наши заняли возвышение вперерез большой дороги, а позади расположились гвардейские кавалерийские полки. Толпы несчастных смолян, рассыпавшихся по полю без крова, приюта, понемногу собирались сзади, около нас, чтобы продолжать далее свое тяжелое странствование. Крики детей, рыдания раздирали нашу душу, и у многих из нас пробилась невольно слеза и вырвалось не одно проклятие тому, кого мы все считали главным виновником этого бедствия. Здесь я сам слышал своими ушами, как великий князь Константин Павлович, подъехав к нашей батарее, около которой столпилось много смолян, утешал их сими словами: